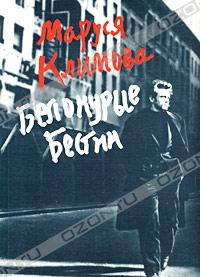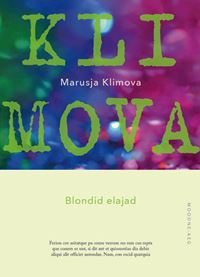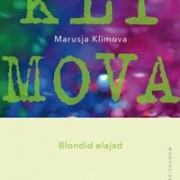Рецензии
Павел Соболев
Андрей Левкин
Евгений Лесин
Михаил Трофименков
Игорь В. Касаткин
В. Бондаренко
Инга Иштван
Валерий Бондаренко
Наталья Загурская
Андрей Иванов
Loetud ja kirjutatud
Урмас Вади
Kirjakoi
«О братья мои, я слышал смех, который не был смехом человека…»
Фридрих Ницше
***
У Маруси часто менялось настроение. Она просыпалась утром в каком-то неопределенном расположении духа, и это настроение постепенно приобретало некоторые очертания, и она решала, что сегодня она будет, например, строгой дамой, ученой, переводчицей. Она никогда не принимала такое решение сознательно, оно просто как-то формировалось в глубине ее подсознания, и тогда она становилась совершенно такой, как требовал этот образ, даже внешность ее изменялась. Строгая дама в очках, в простом темно-синем платье, с портфельчиком, идет по улице, она сурово и с некоторым превосходством смотрит на всех окружающих, у нее есть для этого все основания, ведь она столько уже сделала для отечественной словесности. Если кто-нибудь обращается к ней с вопросом, она вправе воспринимать любой вопрос, как дурацкий — а какие еще вопросы могут ей задать эти убогие люди, которые бегают вокруг в поисках неизвестно чего, озабоченные своими жалкими делишками. Она идет в библиотеку, там она будет читать умные книги, писать научную работу, может быть, даже и диссертацию — почему бы и нет, впрочем, она уже давно работает над научным трудом, пока что он у нее в голове, но скоро, очень скоро обретет строгие очертания и выльется на бумагу; в общей сложности, он составит около пятисот страниц, а может быть, и больше. Но пока что его вовсе не обязательно записывать, она еще обдумывает свою работу.
Бывали дни, когда Маруся представляла себя влюбленной девушкой. Тогда в ее глазах и в лице появлялась радостная расслабленность, она не шла, а летела над землей, и все вокруг казалось ей прекрасным, она была способна понять всех и каждого, и никого не осуждала. Даже если в общественном транспорте кто-нибудь толкал ее или наступал ей на ногу, она улыбалась счастливой блаженной улыбкой, и даже если бы кто-нибудь обидел ее не случайно, а намеренно, она все равно не придала бы этому ровно никакого значения — может быть, у этого человека случилось несчастье, его могли выгнать с работы, не заплатить ему зарплату, а может быть, у него неурядицы в семье, ведь его же нужно понять, он не виноват. Развевающийся платочек, небрежно завязанный на шее, болтающаяся сбоку сумочка — она как бы видела себя со стороны, и все ею восхищались, она была очаровательна, ей так и хотелось сказать всем прохожим: «Посмотрите на меня, какая я красивая и влюбленная!» И если они на нее смотрели, особенно когда она тоже ловила глазами их взгляды, состояние у нее постепенно становилось нервозным, даже на грани какой-то ненормальности, и ее влюбленность плавно переходила в ненависть и злобу. И тогда она становилась злобной энергичной дамой, которая, если к ней кто-нибудь обращается с вопросом, может даже истерически заорать и завопить, и от ее голоса прохожий вздрогнет и отшатнется в ужасе, а она, раздраженно дернув головой, быстро отправится дальше своей дорогой по своим весьма важным делам. После того, как она один раз отвечала на вопрос визгливо и нервно, она уже весь день вела себя точно так же, она уже дергалась безо всякого повода, просто так, по инерции, и получала от этого некоторое удовольствие.
Иногда она воображала себя очень богатой дамой, одной из «новых русских», лицо ее становилось значительным и задумчивым, и эта задумчивость не покидала ее ни на минуту, она действительно думала, но думала она лишь о том, чтобы, не дай бог, кому-нибудь случайно не переплатить. Ведь у нее есть своя фирма, в которой работают наемные работники, она платит им очень мало, только чтобы те не умерли с голоду, и даже эти деньги часто выплачиваются с запозданием, просто потому, что сейчас в стране кризис, у нас же постоянно кризис, а в Саратове рабочим платят холодильниками.
Маруся вспоминала, как они со Светиком сидели в кафе, и там были его друзья, по его словам, это и были «новые русские», какая-то особая порода людей — все они были очень задумчивыми и немногословными, они выражали свои мысли при помощи трех-пяти слов, больше им было не нужно. В основном, они объяснялись жестами, которые были приняты в их среде, понять их могли только посвященные, и Светик как раз и был именно таким «посвященным», он был прекрасно осведомлен обо всех их делах, знал, как нужно себя с ними вести. Все сделки у них, как правило, тоже заключались без слов, молча. Приятель Светика, Джерри Смит, вообще-то, был русский, но имя у него почему-то было английское, он владел магазином при гостинице «Европейская», там делали расписные брошки, на него работал целый цех мастеров, а дома у него эти брошки валялись всюду — на полу, на подоконниках, даже все занавески были усеяны этими брошками, даже в туалете около унитаза было набросано несметное количество этих брошек, напоминавших больших черных жуков с блестящими узорными спинками. Джерри Смит почти всегда был занят, но примерно раз в неделю у него случался запой, он мог позволить себе расслабиться, культурно отдохнуть, и он пил, и пил, и пил, однако на первый взгляд невозможно было понять, пьян он или нет, но он хотел отдыхать по полной программе, просто оттянуться на полную катушку, а раз уж он начинал пить, то ему нужна была девушка, чтобы достойно завершить начатый день. Он пригласил Светика, потому что у него было очень много знакомых девушек, и еще он умел снимать девушек прямо на улице и где угодно, Светик пришел в узорном халате, надетом на голое тело, без трусов, сперва он предлагал в качестве девушки себя и все повторял:
— Джерька, давай я буду твоей женой? Я буду такой классной женой, такой жены ты нигде не найдешь! — и при этом все пытался схватить Джерри за ширинку, но тот упорно отводил его руку и бормотал заплетающимся языком:
— Отстань! Я сказал! Котенок, я тебя люблю! Но я сказал!
Светик на какое-то время отставал, но потом опять начинал лезть. Светик хотел ужин в ресторане, он хотел с шиком проехать по Невскому, глядя на прохожих из окна тачки и окликая знакомых, когда машина останавливается у светофора. Джерри сидел и задумчиво смотрел в потолок, потом он достал свою записную книжку и стал обзванивать всех своих знакомых девушек, но их либо не было дома, либо они были заняты, никто не хотел к нему ехать. Светик сказал, что у него тоже есть знакомые девушки, и позвонил.
— Ой, Маринка, привет, дорогая! Ты где? Сидишь в кафе? Долго еще там будешь? Подожди, мы скоро подойдем. Я тебя познакомлю со своим другом, он такой классный парень, та-а-акой классный, ты сама увидишь. Ну ладно, до встречи. Целую.
Джерри молча смотрел на Светика сквозь очки, он был потный и красный, спутавшиеся курчавые волосы в беспорядке свисали на лоб, маленький красный носик блестел.
— Поехали, Джерри, сейчас я познакомлю тебя с девушкой!
— Надень трусы, — мрачно сказал Джерри, но Светик сделал вид, что это к нему не относится.
Они вышли, Джерри захлопнул за собой железную дверь кафе, которая закрылась с таким грохотом, что содрогнулся весь дом. На Невском поймали машину, Светик пел: «Сколько раз спасала я тебя, не могу я больше, не могу…» Водитель косился через плечо и хмыкал. Внезапно Светик забеспокоился:
— Джерри, а ты что, карту дома оставил? Ты карту же забыл? Мы же в ресторан едем, Джерри?
Джерри молчал и загадочно улыбался. Машина затормозила у светло-зеленого Строгановского дворца, Светик, Маруся и Джерри вышли.
— Ну что, — сказал Джерри, обращаясь к Светику, — плати! Кто платить будет?
Светик скосил глаза вниз, на свои ноги, потом в сторону, на лице его появилось беспокойство, но Джерри не стал долго его мучить:
— Ну ладно, я пошутил!
Он достал из кармана светло-бежевых шорт комок сторублевок, осторожно вытащил одну и протянул водителю.
— Все! Я сказал! Куда?
Светик нежно взял Джерри под руку, прижался к нему всем телом, и так они отправились прямо через Невский, не обращая внимания на сигналы проезжавших мимо автомашин. Они вошли в Строгановский сад, почти все столики были заняты, вдруг Светик завизжал и бросился к какой-то тощей бабе, на ней было блестящее открытое платье на тонких лямочках, в ушах бриллиантовые серьги, волосы были светло-русые, глаза голубые и блестящие, с расширенными зрачками. Они поцеловались. Светик немного поговорил с ней, Джерри же стоял в стороне, тихо покачиваясь, и осматривался вокруг. Вдруг Светик пронзительно закричал:
— Ой, Маринка, Маринка, привет! — и, схватив Джерри за руку, подтащил его к столику, стоявшему у самой ограды, за которым сидели две девушки: одна толстенькая и крепенькая, в черной прозрачной блузке, другая с задумчивым меланхолическим взглядом больших черных глаз и с маленьким плотно сжатым ротиком — это и была Маринка.
Светик подскочил к столику, они поцеловались с Маринкой, при этом полы его узорчатого халата распахнулись, и все увидели, что он без трусов, ниже круглившегося животика болтались маленький сморщенный член и два синеватых мешочка.
— Прикройся, урод! — громко и презрительно произнесла подруга Маринки. — Ты же просто какой-то городской сумасшедший. Ты думаешь, всем приятно рассматривать твои гениталии?
Светик сделал вид, что не слышит, однако халат запахнул.
— Это мой друг Джерри. Самый лучший друг… Ну что, Джерри, как тебе Маринка? Я же говорил, что она классная!
Джерри, внимательно осмотрев Маринку, кивнул головой. Маринка многозначительно улыбнулась уголком рта, но ее взгляд выражал полное безразличие. Светик схватил лежавшее на столе меню и начал его тщательно изучать.
— Ой, здесь есть лосось! Хочу лосося! — слова Светика, вроде бы, адресовались Джерри, но тот молчал, никак не реагируя.
— Слушай, прикройся, а? Мне уже надоело на тебя смотреть, мне просто противно! Ты меня достал, понимаешь? — продолжала настаивать подруга Маринки.
Светик, ничего не отвечая, повернулся к Маринке:
— Слушай, Маринка, — заговорщически полушепотом произнес он, — у тебя есть пять долларов? Одолжи мне, пожалуйста, пять долларов, я тебя очень прошу!
— Светик, — виновато ответила Маринка — у меня совершенно ничего нет. Вот только что я заплатила за себя и за подругу, и у меня не осталось денег.
Тут у нее в сумке зазвонил мобильный телефон, она извлекла его и, отвернувшись от Светика, интимным шепотом сказала:
— Да? Слушаю. Сейчас, подожди немного…
Она встала из-за столика, отошла в дальний угол двора и там довольно долго о чем-то говорила. Джерри смотрел на нее и давился от смеха, почему-то ему ее поведение показалось ужасно смешным.
Подруга Маринки с отвращением смотрела на Светика, который вдруг выскочил из-за стола и отправился на детскую площадку, где стояли деревянные лошадки и валялись разноцветные мячи. Он схватил один такой мяч и запихал его себе под халат, и в таком виде сел на лошадку, немного покачался, а затем стал разгуливать туда-сюда, изображая беременную даму. Джерри молча смотрел на него, подруга Маринки даже отвернулась, а все остальные посетители ресторана с некоторым удивлением наблюдали за этой сценой. Погуляв немного, Светик вернулся за столик, подозвал официантку и заказал лосося, умоляюще глядя на Джерри. Джерри молчал, он не возражал, но и никак не ободрял Светика, он тоже начал изучать меню, и в конце концов изрек:
— Пошли отсюда.
— Как пошли? Ты что, Джерри? А как же Маринка?
Светик сделал томные глаза и изобразил на своем лице сладкую негу. — Маринка же расстроится…
— Есть здесь нельзя, — пробормотал Джерри. — Вот пить можно. Будем здесь пить. А есть здесь нельзя.
— Почему нельзя? А лосось? Ты знаешь, какой здесь классный лосось? Ты просто не пробовал!
Светику уже принесли большую тарелку с лососем, жареным картофелем, листиками зеленого салата и кусочком лимона. Светик тут же заказал еще и молочный коктейль, пояснив при этом Джерри:
— Ты же сказал, что здесь нужно пить. А я всегда тебя слушаю, для меня твое слово — закон. Ты же мой друг. Лучший друг.
Подруга Маринки тоже ела лосося, она внимательно рассматривала Джерри и вдруг, совершенно неожиданно, подцепив на вилку кусочек лосося и листочек салата, протянула ее через весь стол прямо ко рту Джерри.
— Попробуй! — сказала она, загадочно улыбаясь. — Попробуй! Увидишь, как это вкусно!
Джерри молча замотал головой из стороны в сторону, отказываясь открыть рот.
— Пожалуйста! — продолжала настаивать она. — Ну скушай! Тебе понравится!
Джерри, как бы загипнотизированный ее настойчивым голосом и вилкой, маячившей у самого его лица, медленно открыл рот, и она тут же быстро засунула туда кусочек лосося. Джерри с сомнамбулическим видом медленно начал жевать, а потом с трудом проглотил. Подруга торжествующе смотрела на него:
— Ну как? Вкусно? То-то же!
Тем временем вернулась и Маринка, она села рядом со своей подругой, немного подумала и сказала:
— Ну ладно, мы пошли. Нам уже пора. У меня на Невском машина припаркована, оплаченное время уже прошло.
— Как? — всполошился Светик. — Куда это вы пошли? А нам без вас будет скучно! Смотри на Джерри, как он уже расстроился!
— Господи, что за урод! Да прикройся ты, кретин! — опять довольно грубо обратилась к Светику подруга Маринки.
Светик внезапно вышел из себя:
— Заткнись ты, толстый жирный бочонок, ты мне надоела! Я не желаю слушать тебя! Я тебя вообще не знаю! Кто ты такая?
— Светик ты что, не знаешь? Это же моя подруга Валя, ее папа возглавляет министерство оборонной промышленности Армении!
— Ну и что? А чего она ко мне цепляется? Что ей от меня надо? — плачущим голосом протянул Светик. — Я ей что, не нравлюсь? Ведь меня же все любят, правда, Маринка? Меня невозможно не любить, вот спроси у Джерри!
Джерри же, до этого тупо молча смотревший на Светика и подругу Маринки, внезапно широко ухмыльнулся и громко произнес:
— Нет, я всех разведу! Всех вас разведу!
Светик уставился на него, ничего не отвечая.
— Я всех разведу! Спокойно! Молча!
Маринка и ее подруга встали, попрощались и направились к выходу на Невский. Светик, Маруся и Джерри остались втроем. Светик съел уже больше половины лосося, выпил коктейль и хотел еще заказать себе водки, но тут Джерри внезапно встал.
— Джерри, ты куда? А платить?
— Заплати, — произнес Джерри, собираясь уходить.
— Джерри, ты что, пошутил? Ты пошутил, да? У меня же ничего нет!
— Заплати, — повторил Джерри, оглядываясь по сторонам, как будто что-то потерял или забыл.
— Джерри, не шути так, мне сейчас плохо станет, я же вообще без копейки, я уже давно на мели, ты же знаешь!
Джерри внезапно расплылся в улыбке и достал из кармана кредитную карту.
— Котенок! Я пошутил! Ладно, давай!
— А правда, Маринка хорошая девушка?
— Твоя Маринка — дерьмо! — внезапно сказал Джерри.- Она — полное дерьмо!
— Да? — переспросил Светик. — Действительно, она — дерьмо! Если так говорит мой друг, значит, она — дерьмо! Ведь ты мой друг, Джерри, и я люблю тебя больше всего на свете! Ты для меня дороже всех! А Маринка — дерьмо!
Вдруг раздался чей-то голос:
— Свет мой, привет! Ты ли это?
Светик тут же отвернулся от Маруси и с самой радостной из своих улыбок, раскрыв для объятий руки, направился к высокой стройной даме, одетой в светло-серое открытое шелковое платье с ниткой жемчуга на шее.
— Ой, Марьяша, дорогая, где ты пропадала? Сколько лет, сколько зим? Все у Версачче тусуешься?
Дама что-то стала шептать Светику на ухо, а он лукаво улыбался, кивал и стрелял глазами по сторонам, извиваясь при этом всем телом.
— Светик, кто это? — спросила его Маруся, когда дама отошла.
— Это крутая баба, — небрежно бросил ей Светик и снова принялся за лосося.
***
Марусина мама хотела, чтобы у Маруси был приличный муж, трое детей, два мальчика и девочка, маленький трехэтажный домик с садом, бассейном и видом на море, желательно, на Карибское или Средиземное, а Маруся — «просто Маруся» — сидела бы в этом саду в кресле-качалке и любовалась морским пейзажем, и в это время откуда-то сверху звучала негромкая классическая музыка или же Хулио Иглессиас, этого певца мама очень полюбила, когда жила с отцом в Никарагуа, он тогда там был очень популярен. И тогда она тоже могла бы приехать к Марусе на лето и немного отдохнуть от всего этого говна, которое ее здесь окружало, потому что наши соотечественники, даже если их поселить во дворцы с золотыми дверными ручками и унитазами, как у брунейского султана, они все равно все вокруг обмажут говном и будут жить в говне, в последнее время мама окончательно пришла к такому выводу…
Во время своего последнего приезда в Петербург Пьер жил у марусиной мамы, у нее была большая трехкомнатная квартира, правда, от центра далековато, но зато метро есть, а Пьер уже знал Петербург довольно хорошо. Маруся встретила Пьера в аэропорту. Пьер был одет в старую рваную куртку, что-то типа ватника, на нем были еще и ватные коричневые штаны и кирзовые сапоги, подаренные кем-то из его жильцов, эти сапоги были надеты на босу ногу, даже портянок не было; а когда он снял куртку и штаны, оказалось, что на нем фланелевые зеленые штаны типа кальсон и фланелевая серая рубаха с начесом без пуговиц, рубаха распахивалась и виднелась красная грудь, густо поросшая седым волосом.
Как только Пьер вошел в комнату, где мама уже накрыла стол, приготовила салатик и еще какие-то экзотические блюда — ей не хотелось ударить в грязь лицом перед гостем из Парижа — он тут же, дружелюбно улыбаясь, раскрыл свой огромный чемодан со сваленным в кучу грязным тряпьем, порылся в нем, с торжествующим видом извлек оттуда бутылку «Столичной» и протянул ее марусиной маме.
— Что это такое? — медленно отчеканила она.
— Это водка, очень хороший, дешевый, я купил в самолете, в «Аэрофлоте», всего 40 франков, это ничего, у нас стоит гораздо дороже, очень хороший водка, великолепный! — сказал Пьер и поставил бутылку на стол, уселся сам и тут же, не дожидаясь приглашения, начал накладывать себе салатик.
— Подождите, я не вполне понимаю, — марусина мама так и осталась стоять посреди комнаты прямо под хрустальной люстрой, — зачем вы принесли сюда это? — она указала на бутылку водки.
Пьер уже отвинчивал пробку и торопливо наливал себе в стопку, которую он сам взял тут же в буфете у мамы, самовольно открыв стеклянную дверцу, но после ее слов он вдруг застеснялся и сел смирно, положив на скатерть красные руки с черной каймой под ногтями.
— У нас в семье, вообще-то, не пьют, тем более водку, — строго проговорила мама, глядя прямо на Пьера, и как бы гипнотизируя его своим взглядом.
— Да, но ваш муж был моряк, — начал было Пьер, однако мама даже не дала ему закончить фразу.
— Мой муж был ученым, он был кандидат юридических наук, поэтому я очень прошу вас, уберите со стола эту гадость, можете потом сами ее употребить по своему усмотрению…
Мама отвела Пьеру дальнюю комнату, каждое утро он вставал очень рано и, стараясь неслышно пройти по коридору, на цыпочках и в носках пробирался на кухню, ставил себе чайник и варил яичко. Но мама спала очень чутко и всегда слышала каждое его движение. Однажды она вышла из комнаты как раз в тот момент, когда Пьер уже сварил себе яичко и собирался его съесть.
— Что это вы тут делаете? — строго спросила она его. Пьер в ужасе вздрогнул, вскочил с табурета и, зажав яйцо между большим и указательным пальцем, продемонстрировал его маме:
— Вот, яичко…
— А, ну ладно-ладно, не надо так волноваться, яичко так яичко, только газ не забудьте, пожалуйста, выключить.
Стояли сильные морозы, а Пьер оказался одетым очень легко и ужасно мерз, поэтому мама предложила ему старый тулуп, который носил еще марусин дедушка — он как-то приехал в нем из Жмеринки, да так и оставил здесь — и еще шапку-ушанку, Пьер очень обрадовался и тулупу, и шапке. Кроме того, мама подарила ему шерстяные носки, старый свитер и кальсоны, чтобы он не замерз, а то еще отморозит себе свои старые причиндалы, он и так ходил, как будто у него геморрой из жопы до колен висел. Соседям, которые интересовались, кто это у нее поселился, марусина мама тоже сказала, что это родственник марусиного дедушки, приехал из деревни с Украины, что-то все по магазинам ходит, ищет, и что ему здесь надо, так толком и не говорит. Потом, когда Пьер, уезжая, оставил маме на столе кучу пробных пакетиков с разными кремами и духами, которые во Франции обычно раздавали бесплатно при открытии нового универмага или при презентации новой марки духов или кремов — он всегда привозил кучу таких пакетиков в качестве подарков для своих знакомых — мама сгребла все эти пакетики в кучу и засунула их Пьеру обратно в чемодан, который еще стоял раскрытым. Пьер пролепетал, что это «подарок», но марусина мама громко, отчеканивая каждое слово, произнесла:
— Спасибо, оставьте себе, у меня есть мыло, в крайнем случае, я себе куплю, а вам пригодится!
***
Маруся ощущала себя как в колбе, она никак не могла вырваться наружу, несмотря на многочисленные ухищрения, все равно она оставалась там, внутри, в полной темноте и мраке, она как будто еще не родилась, а может быть, и не хотела родиться на свет, зачем ей это, если и так ей было тепло и уютно. Она чувствовала себя бесформенной, как какая-то глыба или куча, она уже заранее ощущала те усилия, которые пришлось бы предпринять для обретения оформленного состояния, и ей было лень делать эти усилия, потому что они были болезненными, а она всегда боялась боли. Для того, чтобы из полного хаоса получилось что-то внятное, нужно было долго-долго трудиться, стараться, а у нее не было сил, желание, может быть, и было, но даже в этом она была не вполне уверена. Она поняла, что для жизни вовсе не нужно читать книги, еще ее бабушка ей об этом говорила, поэтому она и была недовольна, когда видела Марусю с книгой, она сразу же старалась занять ее чем-нибудь, дать ей работу, только чтобы она не сидела с книгой.
У марусиной бабушки в Жмеринке была лучшая подруга — Гандзя. Гандзя жила одна в покосившейся хибаре на самом краю улицы, весь ее огромный участок земли зарос лопухами и чертополохом, Гандзю все звали «Козья Матерь», потому что у нее было много коз, она их очень любила, а вот соседских детей, которые постоянно дразнили ее коз, она гоняла крапивой, бросала в них шишки и комья земли, и даже угрожала им вечным проклятием. Еще у нее было много икон, вся хата была увешана иконами, и она не пропускала в церкви ни одной службы. Все соседи ее боялись, и только марусина бабушка поддерживала с ней достаточно теплые отношения, каждый раз, когда она пекла пироги, она посылала Марусю отнести Гандзе кусочек, а Гандзя за это всегда снабжала ее свежим козьим молоком. Бабушка заставляла Марусю пить это молоко, но Маруся терпеть его не могла, оно казалось ей просто отвратительным, у него был мерзкий привкус, а однажды на самом дне банки, в которой было молоко, она обнаружила какие-то причудливо изогнутые корешки и травки. Маруся показала это бабушке, и бабушка тут же выбросила все это на землю, стала что-то шептать, плевать на эти корешки и травки, крестить их, а потом растоптала ногами и сожгла, осталась только кучка пепла, и бабушка эту кучку развеяла по ветру. Но Гандзе она ничего не сказала, просто больше не заставляла Марусю пить козье молоко, а отдавала его Дедушке-доктору, который был этим очень доволен. Дедушка-доктор лечил в Жмеринке и детей, и взрослых, а некоторым, совсем стареньким и дряхлым старушкам, иногда давал какое-то снадобье, и они спокойно засыпали и больше не просыпались.
Однажды одна из бабушкиных кур снесла неестественно маленькое, как будто недоразвитое яичко, и бабушка тогда ужасно обеспокоилась, схватила это яичко и побежала к Гандзе, ее долго не было, вернулась она поздно вечером, совершенно просветленная и в хорошем настроении и даже дала Марусе пятнадцать копеек на мороженое. Бабушка страшно поругалась с соседкой по имени Ядзя, они с ней уже давно враждовали, и бабушка называла ее не иначе, как «язва», и вот наконец ссора достигла своего апогея, бабушка так изощренно ругала и проклинала Ядзю, что та даже стала швырять в бабушку огромные сорняки с корнями, на которых засохли комья земли, так что получались такие своеобразные снаряды, и один такой снаряд попал бабушке в плечо, бабушка же, схватив в руки здоровенный кол, бросилась к забору прямо на Ядзю, и та вдруг испугалась, повернулась и убежала в дом. «А щоб ты сказылася!» — бросила бабушка ей вслед, плюнула и тоже ушла в хату. Однако конфликт на этом не кончился, вскоре сдохли две лучшие бабушкины курицы, коричневая и серая, они поклевали что-то у забора, граничившего с участком Ядзи, и сдохли, и даже кусты смородины, росшие там же, на границе, стали сохнуть и почернели.
Бабушка же через какое-то время отправилась к другой соседке, которая была с Ядзей в хороших отношениях и даже недавно помогала ей сделать прическу — вообще, очень мало кто из соседок подстригался или как-то заботился о своих волосах, обычно все повязывали на головы платки, а что там, под платком, видно не было. Однако старшая дочь Ядзи недавно вышла замуж, на свадьбу пригласили всех соседей, кроме бабушки, вся улица гуляла целых три дня, все были пьяные, и Ядзя, ради такого случая, сделала себе на голове нечто невообразимое: когда она появилась на крыльце, чтобы встречать молодых, все соседки просто ахнули от зависти — причудливые волны шли от пробора к вискам, а на затылке вздымался пышный начес в виде целой горы, Ядзю трудно было узнать. Бабушка же наблюдала за всем этим, сидя у себя на крыльце и злобно шипела что-то себе под нос как змея, периодически плюясь и повторяя: «А, щоб вы уси посказылыся! Щоб вас усих так трясло и начесывало!»
А на следующий день она завязала в узелок кусок сала, круг домашней колбасы, полпирога с мясом и пошла к той соседке, она взяла Марусю с собой, и та видела, как они долго шептались о чем-то, и наконец соседка вынесла из другой комнаты пучок волос и, завернув их в бумажку, отдала бабушке. Бабушка, очень довольная, расцеловалась с соседкой, причем, когда они целовались, у бабушки было такое лицо, как будто она сейчас эту соседку укусит, и они с Марусей отправились домой. Дождавшись полнолуния, бабушка взяла эту бумажку с волосами, еще набрала с собой каких-то травок, которые в изобилии сушились у нее на печке, сложила их в полотняный мешочек и пошла к Гандзе.
Они с ней уединились в бане и зачем-то затащили туда с собой старого козла с длинной седой бородой и огромными рогами. Гандзя была, как обычно, сосредоточена, у бабушки на лице застыла злобная гримаса. Марусю они оставили в предбаннике, бабушка что-то говорила Гандзе про «дытыну», Марусю усадили на лавку, дали ей большой пряник и оставили в полном одиночестве. Через небольшое окошечко Маруся с трудом различала в полумраке мешковатые неуклюжие силуэты бабушки и Гандзи, отбрасывавшие огромные тени на стены, в бане горело несколько свечей, причем свечи эти бабушка, кажется, купила в церкви. Козел смирно стоял у печки и даже не пытался мекать, а завороженно наблюдал за действиями двух женщин. Гандзя сняла платок и распустила волосы, точь-в-точь как ведьма с картинки из книжки сказок, которую Марусе подарил дедушка, потом бабушка достала бумажку с волосами, они разделили эти волосы на две части, одну часть обмазали чем-то похожим на козье дерьмо и запихнули в трубу, а над оставшимися волосами долго колдовали, произносили какие-то непонятные слова и даже подпрыгивали задом наперед. Потом бабушка зажгла сухие травки, из-под двери в предбанник потянуло странным запахом, едким, сладковатым и приятным, и Марусю стало непреодолимо клонить в сон, хотя ей было очень интересно досмотреть, чем же все это закончится. Гандзя с бабушкой все что-то шептали, делая руками странные неестественные жесты, козел оказался уже в самом центре, между ними, и они как будто пытались его загипнотизировать, козел стоял совершенно неподвижно, весь напрягшись, но не делал никаких попыток вырваться, и вдруг как будто молния сверкнула, это Гандзя выхватила откуда-то огромный блестящий нож и резко полоснула им козла прямо по горлу, густая темная кровь хлынула на деревянный пол, и тут Маруся как будто отключилась, она на какое-то время потеряла сознание, ее окутала полная тьма.
Очнулась она оттого, что бабушка легонько тянула ее за руку, она встала и покорно пошла за бабушкой, она уже ничего не соображала, кроме того, стояла глухая ночь и ничего не было видно, Марусе казалось, что она попала в другую реальность, но не успела она пройти и двух шагов, как на нее напал ужасный приступ блевотины, ее вырвало прямо под ноги бабушке, та едва успела отскочить и тут же дала Марусе мощный подзатыльник. Но Маруся как будто ничего не чувствовала, она не могла контролировать своих действий, мысли в ее голове совершенно перепутались, она все блевала и блевала, и блевала. Наутро бабушка отвезла ее на трясущемся душном автобусе в больницу, где Марусе делали промывание желудка и давали какие-то мерзкие таблетки, но блевотина все не прекращалась, это длилось довольно долго.
Примерно через две недели Маруся все же пришла в себя и начала понимать, где находится, она лежала на железной кровати, справа и слева от нее лежали какие-то бабы, одна из них, сердобольно глядя на Марусю, запричитала: «Ох, бидна дытына, яка болезна!» А Марусе вдруг ужасно захотелось встать на голову, то есть не то, чтобы встать на голову, а просто сделать стойку на лопатках, как она делала в школе на уроках физкультуры, это желание было просто непреодолимым. И она потихоньку стала съезжать вниз, к задней спинке кровати, сперва ее голова съехала с подушки а ноги стали подниматься на спинку все выше и выше, спинка же упиралась в бледно-голубую стену, а баба ничего не замечала и все причитала про «дытыну». И вдруг Маруся резким движением взгромоздила ноги на стену, подтянула всю спину вверх, к спинке кровати, и сделала безупречную стойку на лопатках, одновременно она повернула голову к оторопевшей бабе и радостно ей улыбнулась.
Ядзя же через пару месяцев время сильно похудела, побледнела, пожелтела, даже по своему участку ходила с трудом, опираясь на суковатую клюку, через некоторое время ее увезли в больницу, а потом ее дочка забрала ее к себе в Киев, и больше Ядзю Маруся никогда не видела. Бабушка же не выражала по этому поводу абсолютно никаких эмоций, она просто перестала замечать Ядзю и даже никогда не смотрела в сторону ее дома.
***
Марусе внезапно позвонил ее приятель Вася, с которым она не виделась уже несколько лет. Они познакомились, когда учились еще в восьмом классе средней школы, потом ездили вместе с литературным клубом «Бригантина» в экспедицию по городам Ленинградской области. По замыслу начальства, они должны были потом описать все достопримечательности. Их сопровождала толстая старушка, Нина Петровна, которая по вечерам, после ужина, усевшись на скамейке среди кустов, пела им песни своего любимого певца Окуджавы; песню про зайцев и про капусту Нина Петровна пела с особым самозабвением и значением, как будто хотела сказать то, чего никто не знал и не понимал. Все девочки, собиравшиеся вокруг Нины Петровны, зачарованно ее слушали, не сводя с нее глаз, а потом шепотом передавали друг другу эту песню, как заклинание. Конечно, Нина Петровна пела еще много других песен, но песня про зайцев и про капусту всегда пользовалась особенным успехом.
Маруся не дружила с девочками, которые были постоянными слушателями Нины Петровны, они ее раздражали своими дурацкими ужимками и бессмысленными разговорами, им она предпочитала Васю. Они вместе курили болгарские сигареты, которые покупали тайком от старших и девочек, потому что те всегда могли их заложить. Однажды в Старой Ладоге Маруся с Васей отправились покурить в какие-то развалины, где везде валялись битые стекла и куски кирпича, вдруг туда заглянула Ира, которая была комсоргом и старостой группы; Маруся с Васей стояли, курили и мирно беседовали. Ира, заметив их, многозначительно хмыкнула и исчезла. На следующий день все стали говорить, что у Маруси с Васей роман. Фамилия Васи была Тургенев, поэтому некоторые мальчики дразнили его «Му-му», но он был очень красивый мальчик, и в него были влюблены все девочки, а о его зеленых глазах, черных бровях и длинных ресницах Ира даже написала стихи:
Тех длинных ресниц дуновение,
Как эхо далекой классики,
Его называют Тургенев,
А можно и просто Вася!..
Однако про Васю распускали слухи, что он любит мальчиков, другой марусин знакомый, Володя, потом под большим секретом рассказал ей, как однажды вечером к нему домой приехал Вася, обнимал его и валялся у него в ногах, но тот остался неприступен и отказал Васе во взаимности. Возможно, это были просто сплетни, которые распространялись из зависти, но эти сплетни пересказывались все чаще и чаще.
Володя состоял в секции поэтов и писал романтические стихи. У него тоже были очень красивые глаза с длинными ресницами и длинные вьющиеся волосы, хотя непропорционально большая голова на тщедушном теле производила странное впечатление. Володе одна девочка тоже посвятила стихи:
У тебя глаза, как намазаны маслом,
У тебя глаза, как большие магниты,
У тебя в глазах сумасшедшее счастье,
У тебя глаза, словно солнцем залиты.
Володя был любимцем Нины Петровны, она часто звала его послушать песни вместе с девочками, но он всегда неизменно отказывался, вежливо ее поблагодарив, поэтому она не обижалась. Вместе с Ниной Петровной за группой наблюдала и ее дочка, Надежда Ивановна, высокая женщина с круглым лицом, круглыми глазами, маленьким носиком и маленьким пухлым ротиком, с волосами, завитыми в перманент. Она тоже очень любила слушать песни своей мамы, но сама никогда не пела.
Вася предложил Марусе встретиться:
— Я заеду за тобой, мой шофер сейчас в гараже, но машину минут через пятнадцать подаст, так что я буду у тебя минут через сорок. Я тебе позвоню.
— Но у нас у подъезда сломан автомат… — на всякий случай предупредила Маруся.
— Дорогая, в каком веке ты живешь, — с легким презрением в голосе прервал ее Вася, — у меня мобильник, поэтому подобных проблем для меня просто не существует.
Вася вел на телевидении программу, где показывал отрывки из новых фильмов, модных западных и отечественных актеров и певцов, которых он называл не иначе как «звезды».
Через некоторое время Вася позвонил снова.
— Я еду к тебе, — сообщил он, — я уже проезжаю мимо книжного магазина, так что будь готова.
Маруся и так уже была готова, она даже успела надеть на себя свое старое кожаное пальто и сапоги. Через три минуты телефон зазвонил снова.
— Ну что же ты, я уже внизу, у твоей парадной. Давай, спускайся, мы с тобой поедем в бар.
Маруся спустилась вниз. У подъезда стоял обшарпанный белый «Москвич», дверь его приоткрылась и оттуда выглянул улыбающийся Вася:
— Давай, дорогая, садись, — сказал он, — долго же ты собиралась! У нас же время на вес золота!
Маруся забралась на заднее сиденье, за рулем сидела мрачная баба в шапке-ушанке, которую Маруся сперва приняла за мужика. По дороге Вася начал допрашивать ее, сколько она истратила на бензин, сколько — на запчасти; та молча протянула ему пачку каких-то бумаг и чеков, Вася тут же начал их тщательно изучать, периодически задавая ей вопросы недовольным голосом. Тем временем они приехали.
Бар находился недалеко, на улице Рубинштейна, в подвальчике. На зеленой вывеске было написано по-английски «Molly Irish Bar».
— Подожди меня, — сказал Вася шоферше, — я ненадолго.
Они с Марусей спустились по ступенькам вниз, где у входа их встретил молодой человек в белом переднике, который заискивающе поздоровался с Васей — похоже, Вася был здесь своим человеком. Они сели за столик в углу. Вася улыбнулся Марусе своей самой очаровательной улыбкой и спросил:
— Ну, что ты будешь пить?
Он широким жестом протянул Марусе карту в красивом темно-зеленом переплете, Маруся наугад указала на какую-то строчку. Вася сел рядом с ней, внимательно посмотрел на то, что она выбрала, и лицо его обрело задумчивое выражение.
— Знаешь, дорогая, — протянул он, — это для тебя, пожалуй, будет тяжеловато, это слишком крепкое черное пиво. Лучше я сам для тебя что-нибудь выберу.
Он подозвал официанта и сделал заказ — вскоре ему принесли большую кружку темного пива, а Марусе — высокий стакан со светлым пивом.
— Ну вот, — удовлетворенно произнес Вася, — сейчас подойдет мой партнер, и мы поговорим. А пока я потихоньку введу тебя в курс дела.
Маруся смотрела на Васю: он совершенно не изменился, только лицо приобрело чуть красноватый оттенок, и у глаз появились морщины, а так он был все такой же — красивый и веселый. А может быть, ей просто казалось, что он не изменился: она часто принимала желаемое за действительное, и если ей чего-то очень хотелось, ей уже сразу начинало казаться, что так все и есть на самом деле. Например, если ей кто-то нравился, ее мысли постепенно все концентрировались на объекте ее внимания, и постепенно она уже и сама совершенно уверялась в интересе этого человека к себе. Как же дело обстояло на самом деле, она старалась не думать, объясняя все отрицательные проявления по-разному, но всегда в свою пользу. Вот и сейчас, когда она сидела напротив Васи и смотрела в его красивые карие глаза, ей казалось, что он в нее влюблен, а разговор о работе — это лишь предлог, повод для встречи.
— Ты что, меня не слушаешь? Знаешь ли, дорогая — недовольно сказал Вася — каждая моя минута на вес золота, и я не привык, чтобы меня не слушали. Так вот, повторяю еще раз: я решил организовать свое Агентство, и мне нужны квалифицированные, толковые, образованные люди, вроде тебя. Но сейчас должен подойти мой партнер, и он тебе все объяснит более подробно.
Прошло минут десять, наконец, рядом со столиком возник упитанный розовощекий молодой человек с короткими рыжеватыми вьющимися волосами, такой же рыжеватой щетиной на щеках, бледными серыми глазами навыкате и большим носом. Одет он был в длинный кожаный пиджак, а в руке держал потрепанный портфель, ручка которого с одной стороны была оторвана, отчего портфель болтался и бил его по ногам. Он с размаху бросил портфель на столик и протянул Васе руку.
-Вот, Маруся, познакомься, это Геночка, мой партнер.
Не сексуальный партнер, а чисто деловой, — добавил Вася, хихикнув, — У нас с ним чисто деловые отношения.
Гена, оглядев Марусю с головы до ног, кивнул ей, и, достав из кармана мобильный телефон, тут же удалился в другой конец зала, где, отвернувшись носом в угол, стал кому-то звонить и напряженным голосом что-то выговаривать.
— Так вот, Марусенька, я решил организовать свое Агентство, сейчас мне это просто необходимо. А тебе я предлагаю работать у меня переводчиком или же референтом. Работы там будет немного: ты будешь приходить часиков в десять и уходить часика в четыре-пять, или в шесть. Ну, иногда, конечно, придется и задержаться, но это будет редко. В основном ты будешь сидеть за компьютером и заниматься своими делами — ну там, писать, переводить, в общем, будешь делать, что хочешь. Иногда, конечно, и Геночка будет давать тебе небольшие задания — он все же мой партнер, так что ты имей это в виду.
— А сколько ты будешь мне платить? — спросила Маруся. Ей неудобно было переводить их разговор на столь низменную тему, она вообще всегда избегала говорить о деньгах со своими знакомыми, однако она уже давно сидела без денег, и поэтому просто не могла себе позволить работать у Васи бесплатно. Она долго готовилась задать этот вопрос, и мысленно несколько раз повторила его про себя, но все равно он прозвучал как-то неестественно и некрасиво, она даже покраснела, правда, в баре было темно, и Марусе показалось, что Вася ничего не заметил. Конечно, она не сомневалась, что и без этого вопроса Вася ей заплатит, и заплатит много, ведь он же теперь разбогател, раз у него есть свой личный шофер и мобильный телефон.
— Я буду платить тебе сто долларов в месяц, — быстро проговорил Вася и, не дожидаясь ответа, продолжил свою мысль, — но работы, как я уже сказал, будет совсем немного. Зато ты будешь сидеть в уютном офисе, Геночка недавно сделал там евроремонт, поставил новые столы и стулья и даже жалюзи повесил на окна. Там есть и видик, и телевизор, который ты, при желании, всегда сможешь посмотреть.
Гена тем временем вел оживленный разговор с высоким парнем, который стоял тут же и задумчиво смотрел в окно. В окне были видны только ноги прохожих, месившие осеннюю грязь, потому что бар находился в подвале, а на дворе стоял конец ноября. Парень поздоровался и с Васей. Вася спросил его, как жизнь.
— Да вот, язва меня замучила, я даже ничего ни пить,
ни есть не могу, но все равно прихожу сюда по привычке — хоть посмотреть, как другие пьют, и вообще, сам понимаешь, почувствовать всю эту атмосферу, так приятно. Чтобы уж совсем не забывать.
Вася понимающе и сочувственно закивал.
Гена сел рядом с ними за столик и стал рассказывать про какого-то Илью, с которым только что закончил говорить по телефону:
— У него, понимаешь, там дача-срача, он о ней мне все уши прожужжал. А я себе недавно в ванной пол с подогревом установил. Представляешь, какой кайф — вылезаешь из ванной, на улице холод, и вообще, пол холодный, а тут тепло и приятно.
Вася снова энергично закивал, но при этом на лице у него появилась насмешливая улыбка, он заговорщически посмотрел на Марусю. Маруся уже выпила свое пиво и ожидала, что же будет дальше.
— Ну ладно, — наконец обратился к ней Вася, — в понедельник приходи в Дом Кино, там находится наш офис. В общем, Геночка тебе позвонит.
***
Костя жил в маленькой комнате в коммуналке на улице Декабристов, под самой крышей. Из одного окна у него был виден золоченый купол Исаакиевского собора, и Маруся раньше любила курить у этого окна и смотреть вниз на прохожих и вдаль, на собор, пока Костя вообще не заколотил это окно фанерой, отчего у него в комнате даже днем царил полумрак. Костя терпеть не мог Исаакиевский собор, всякий раз, когда он проходил мимо собора, он отворачивался и старался не смотреть в его сторону, даже лицо его искажалось какой-то болезненной гримасой. Он считал, и часто говорил об этом Марусе, что Исаакиевский собор является олицетворением мировой пошлости, и, самое главное, примером того, как грубая сила неизменно побеждает в этом мире и подчиняет себе тупую толпу. Костя не видел в этом бессмысленном нагромождении камней никаких следов подлинного величия, величия человеческого духа, которое, по его мнению, должно проявлять себя в творческой воле, направленной на воплощение чистых форм и идей.
Этот собор был воздвигнут французом, присосавшимся к русскому императорскому двору, хотя, конечно, в том, что Николай поручил строить собор в честь победы над Наполеоном именно французу, был какой-то изощренный садизм, это казалось Косте даже остроумным, однако, стоило только взглянуть на портрет Монферрана, у которого, по словам Кости, было типичное лицо обывателя, чтобы понять: человек с таким лицом просто не мог создать ничего великого. К тому же Неф, придворный художник Николая I, автор иконостаса, на досуге тайком рисовал порнографические картинки для коллекции императора, которые теперь хранятся в запасниках Эрмитажа, так что сейчас это уже всем известно… Вот из этого бессмысленного нагромождения человеческих амбиций, глупости, жадности и тупости и возникла эта громада, которая вообще никакого отношения не имеет к православию, а просто вобрала в себя все пороки своего времени. Единственное достоинство собора — это то, что он такой огромный, и у него здоровенный золоченый купол, который видно издалека, даже с другой стороны Невы, а людям больше ничего и не надо, им этого достаточно, собор подавляет их своей величиной, которую они всегда путают с величием — толпу гипнотизируют сила, масштаб, количество золота, потраченного на купол, а красота и эстетика никого не волнуют. И даже если бы рядом с Исаакиевским собором возник другой, таких же размеров, который был бы уже идеалом вкуса и рожден творческой волей настоящего гения, а не этого «предприимчивого завхоза» — так Костя называл Монферрана — то толпа все равно поклонялась бы ему исключительно из-за его размеров, а красота все равно бы никого не интересовала. Но в конце концов, современных людей можно понять, ведь, живя в своих типовых домах и квартирах, они поневоле попадали под гипнотическое воздействие этого огромного золоченого купола. Конечно, Мопассан бежал от Эйфелевой башни, Гоголю и вообще весь Петербург казался бесконечно скучным, но все это были одиночки, и теперь их поведение кажется бессмысленным донкихотством, безумием, да они и были сумасшедшими, как выяснилось впоследствии. Хотя, с другой стороны, тупое преклонение перед грубой силой рано или поздно выйдет боком всем этим людишкам, и в следующем столетии их всех оттеснят еще дальше на периферию мира, как сейчас выселили на окраины Петербурга, заставят жить в еще более жалких и убогих лачугах, чем теперь, они это вполне заслужили…
От сознания человеческой тупости и равнодушия к красоте Костя часто впадал в бешенство, начинал говорить на повышенных тонах, в его голосе появлялись какие-то неприятные металлические нотки, которые пугали Марусю, к тому же, от спокойных отвлеченных рассуждений он вдруг переключался на нее, так как, по его мнению, она тоже ничего не понимала, как и все вокруг, и в частности, она не понимала того, что говорил ей он, от нее постоянно ускользала сама суть его рассуждений, и он это прекрасно чувствовал, хотя она и молчала и делала вид, что слушает его внимательно. Или же, наоборот, он вдруг обрушивался на нее с обвинениями, что она настоящая дура, так как напрасно старается, просиживая целыми днями в библиотеке над переводами и романами, все равно это никому не нужно, и она могла бы спокойно почти ничего не делать, ибо «всем этим безмозглым идиотам можно всучить любое фуфло»…
В последний раз, когда Маруся зашла к Косте, он особенно на этом настаивал, ведь у нее уже вышло много книг, но она все равно обречена работать на какого-нибудь Васю или Петю, или еще кого-нибудь, неважно на кого, потому что стараться что-то делать, создавать прекрасное, это и значит быть настоящим идиотом, так как это значит совсем ничего не видеть вокруг и не понимать человеческой природы. А тогда все созданное тобой, чем больше ты в него вкладываешь, тем оно хуже и глупее, так как от этого оно невольно становится символом твоей порабощенности миром, который этого не стоит, а заслуживает только презрения. В конце концов, Ницше был прав, считая, что даже само слово «работа» произошло от слова «раб», вот он, Костя, в отличие от Маруси, никогда ничего не записывал, он просто говорил, что ему придет в голову в этот момент, а потом сразу же все забывал — в этом Костя видел свое главное преимущество перед ней…
В последнее время Костя, действительно, нигде не работал, и поэтому у него часто совсем не было денег, и он целыми днями, даже неделями, лежал на диване, как будто придавленный какой-то невидимой тяжестью. Костя считал, что в духовном мире ничто никуда не может бесследно исчезнуть и раствориться, ибо там тоже действует закон, подобный закону сохранения энергии в мире физическом, и люди, часто сами того не понимая, во все времена вынуждены нести на себе некий незримый груз, тяжесть, что-то вроде шкафа, который они тащат, поднимаясь по незримой лестнице — если его держат все, то его вес почти не ощущается, можно его нести с легкостью, шутя, весело переговариваясь между собой, как это и было в начале века, например; но когда все или почти все, кто был с тобой рядом, вдруг этот шкаф отпустят, тогда тот, кому не повезло, и он случайно оказался ближе к центру и не успел тоже вовремя отскочить в сторону, сразу же почувствует, как этот шкаф всей своей тяжестью на него навалился, и уже отойти в сторону, спихнуть с себя этот груз он не сможет, даже если бы очень захотел, так же, как не сможет спихнуть с себя этот шкаф-традицию и все человечество, потому что всегда найдется какой-нибудь дурачок, вроде него, Кости, которому не удалось из-под него увернуться.
И действительно, почти всегда, когда Костя начинал говорить, его голос дрожал от скрытого неимоверного напряжения, он с трудом подбирал слова, и казалось, что эти слова тоже отягощены каким-то невероятным, сверхъестественным смыслом, складывалось даже впечатление, что он имеет дело не со словами, а ворочает огромные тяжелые камни. Но потом, когда ему удавалось выразить свою мысль, довести до конца, он чувствовал неожиданное облегчение и часто, на самом деле, вообще больше никогда не возвращался к теме, которая только что его, вроде бы, так волновала. Жил Костя на небольшую пенсию, которую ему дали после одного из его попаданий в дурдом. Однако к собору, который был у него за заколоченным окном, он возвращался постоянно.
Если бы Маруся со своими жалкими куриными мозгами могла хоть на мгновение себе представить, что здесь, рядом с этим убогим Исаакием, вдруг неожиданно возник другой, идеальный собор, все равно, и там тоже сейчас ходили бы все те же, такие же, как и Маруся, безмозглые экскурсоводы со своими указками и тыкали бы ими в ничего не значащие иконы, пилоны, канделябры, скульптуры, росписи, орнаменты и мозаики, сопровождая свой показ многозначительными словами: «бог», «душа», «гениальность», — такими пустыми и приблизительными, давно утратившими всякий смысл и значившими теперь едва ли не меньше, чем слова «дерьмо» или «презерватив». И самое главное, они вовсе не дурачат толпу, они просто сами ничего не понимают, Костя сделал для себя этот вывод, долгое время наблюдая за той же Марусей. Именно поэтому, отдавая себе отчет в том, как много труда вложил в этот идеальный собор его создатель, Костя неизбежно, в конце концов, тоже должен был бы проникнуться глубочайшим презрением и отвращением и к этому собору, и к марусиным книгам, невольно ставшим в его глазах символами дурного вкуса и человеческого идиотизма, и прежде всего, именно из-за своего совершенства, свидетельствующего о рабском трудолюбии и лакейской прилежности их творцов. Книги Маруси и ее переводы ведь тоже совсем недавно ему даже нравились, но теперь он чувствовал, что его начинает от них тошнить, потому что его тошнило от ее прилежности и исполнительности.
Таким образом, у Кости получалось, что по-настоящему идеальный собор должен был бы запечатлеть в себе волю его создателя, направленную не в лучшую, а в худшую сторону от этого объекта обывательского преклонения, каковым ныне являлся Исаакий, то есть собор, на который Костя мог бы смотреть без отвращения, должен быть построен как можно хуже, настолько хуже, насколько это себе только можно представить, ибо, только прогуливаясь по собору, в котором действительно, в самом деле, воплотилась бы сегодня очевидная для взгляда посвященного чья-то воля к худшему, можно было по-настоящему осознать и почувствовать, что из себя представляет современный экскурсовод, а Косте уже давно осточертели все эти безмозглые экскурсоводы, которые всех нас повсюду сопровождают и постоянно тычут своими указками во всевозможные картины, дворцы, монументы, исторические примеры, образцы для подражания, эталоны и идеалы… Однако эта воля к худшему пугает современных людей, потому что их пугает этот пронзительный свет, делающий все тайное явным, и прежде всего, их собственное убожество, они предпочитают блуждать в тени совершенства, о котором Костя не только говорить, но даже думать не мог без смеха…
Когда он работал в библиотеке, перед ним лежала огромная гора книг на иностранных языках, в том числе и восточных: арабском, японском,- и он должен был все эти книги старательно актировать, то есть печатать на машинке в ведомости их названия и имена авторов, восточные названия обычно дублировались на английском, так продолжалось довольно долго, ведь Костя проработал в библиотеке целых четыре года, целую вечность. Но однажды названия целой стопки японских книг он занес в эту ведомость в виде всевозможных загогулин, скобок, процентов, тире, кавычек и черточек, внешне, по его мнению, все это было очень похоже на иероглифы, он не сомневался, что этого все равно никто не заметит, поэтому он сам специально отнес эту стопку заведующей, положил у нее перед носом и поинтересовался, правильно ли он все сделал, ему это было очень интересно. Тем более, что заведующая по образованию была японисткой, и она, естественно, внимательно посмотрев в ведомость, как он и ожидал, ничего не заметила, а наоборот, радостно и как никогда заискивающе ему закивала, и даже начала его благодарить за проделанную работу, тогда он и запустил в нее ботинком, потому что ему все-таки было очень интересно, заметит она хотя бы это или же нет, ему просто хотелось узнать меру ее идиотизма и порабощенности современной цивилизацией…
И сейчас Костя не сомневался в том, что, если бы вдруг в тот же Исаакий пришел сейчас какой-нибудь указ сверху, что нужно там все иконы и картины перевернуть вверх ногами, то никто из работавших там экскурсоводов этого даже и не заметил. Ну, возможно, в первый момент и произошло бы некоторое замешательство, но директор собора на летучке в течение пяти-десяти минут все бы уладил, разъяснил бы своим сотрудникам смысл этого указа, и те после этого снова взяли свои указки и со спокойной совестью продолжили свою просветительскую деятельность, а вскоре они бы и вовсе перестали замечать произошедшую перемену. Костя очень жалел, что у него не было возможности издать такой указ, а то бы он обязательно это сделал…
В это мгновение нить костиных рассуждений, как это часто случалось с Марусей, окончательно от нее ускользнула. Она вспомнила, как их с классом водили в Русский музей, где им неизменно показывали огромную картину Брюллова «Последний день Помпеи». В результате, Маруся долгое время была совершенно уверена, что это лучшая картина всех времен и народов, и в первую очередь эта ее уверенность была основана на огромных размерах картины. Правда, рядом с этой картиной висела такая же картина Федора Бруни «Медный Змий», и Маруся долго их сравнивала, ее даже стали мучить некоторые сомнения, ведь по размерам эта картина ничуть не уступала «Последнему дню Помпеи». Однако, после долгих размышлений она все же вынуждена была согласиться с доводами экскурсовода — ведь картина Брюллова отражала реальные исторические события, а вот по поводу «Медного Змия» Маруся не была в этом вполне уверена. В Русском музее всегда было очень много народу, и маленькие бархатные диванчики, на которых было так удобно сидеть, постоянно были заняты какими-то толстыми тетками, мужиками и их визгливыми беспокойными детьми, которые вскакивали, бегали по залу, путаясь под ногами посетителей. Обычно такие экскурсии проводились после уроков, в конце дня, и Маруся ужасно уставала, она мечтала посидеть, отдохнуть, кроме того, она хотела есть, и доносившиеся из буфета на первом этаже запахи вызывали у нее мечты о котлетах и картофельном пюре. Однажды экскурсовод так долго рассказывала им про картины, что у Маруси внезапно потемнело в глазах, и она грохнулась на пол, когда она очнулась, то увидела склонившиеся над ней обеспокоенные лица учительницы и еще каких-то баб. Марусю подняли с пола и усадили на бархатный диванчик, предварительно согнав оттуда дряхлого старикана с палкой. После этого Маруся даже во сне увидела землетрясение в Помпее, как будто она тоже находится в самом его центре, все рушится, кругом визжат младенцы и обезумевшие простоволосые полуголые бабы бегают, спасая свои пожитки и детишек, а вокруг бушует пламя. Но теперь бы она на эту картину даже не обратила внимания, и в этом она действительно была согласна с Костей.
Исаакиевский же собор ей нравился, она помнила, как, еще во время учебы в Университете, она выходила курить на набережную и подолгу смотрела на него… И вообще, где бы она ни была, она отовсюду видела купол Исаакиевского собора, силуэт этой золоченой «чернильницы», как называл его один ее знакомый, как-то ее успокаивал, она была уверена, что она у себя дома, и знает здесь каждый угол, каждый проходной двор, каждую подворотню, так что, в случае чего, всегда сумеет спрятаться.
Хорошее знание проходных дворов часто бывает необходимо, марусин школьный приятель, Вова Гольдман, умел им пользоваться. Когда, например, у него не было денег, он вставал на набережной Грибанала так небрежно и ждал — вскоре к нему подходил какой-нибудь лох или даже целая группа и спрашивали, нет ли дури, это было обычное место торговли, и Гольдман, пообещав первоклассной анаши или же сразу несколько чеков по бросовой цене, вел этих людей за собой в один из соседних дворов — ведь при себе дурь держать опасно. Он заранее уже присматривал большую коммуналку, где был черный ход, звонил в один из звонков, которых у двери было не меньше пятнадцати, ему открывал какой-нибудь доходяга, и, не спрашивая к кому он пришел, молча уползал в свой угол, а Гольдман оставался один в длинном темном коридоре. Гольдман брал бабки у заказчиков, просил подождать, закрывал за собой дверь, проходил по темному коридору, выйдя через черный ход, спускался по лестнице и, выйдя с другой стороны через бесконечную анфиладу проходных дворов, убегал далеко-далеко от Грибанала, совсем в другое место, выныривал уже у Эрмитажа, у Невы, а те бакланы ждали его у двери долго-долго, потом начинали звонить, пытались выяснять отношения, но никто из соседей ничего не знал, их посылали на три буквы и грозили сдать в ментовку, а про дурь они спрашивать вообще боялись. Таких коммуналок в Питере было великое множество, особенно в районе Грибанала, что было очень удобно…
***
Маруся проснулась поздно, и настроение у нее было ужасное — на улице все таяло, остатки серого снега лежали на проезжей части, на трамвайных рельсах, по улице шли мрачные прохожие в серой одежде. Маруся почувствовала жуткую тоску и поняла, что наступает очередная депрессия, бороться с которой было практически невозможно, потому что она уже привыкла находить в этих состояниях какое-то странное противоестественное удовольствие. Внезапно ей захотелось пойти прогуляться пешком по городу, вдоль Невы, потом — к площади Александра Невского, потом все дальше, по берегу, в самые грязные и жуткие районы, где дымят фабричные трубы и не продохнуть от смога, где стоят красные кирпичные заводские корпуса, и по грязным улицам бродят пьяные рабочие с опухшими лицами, ей было приятно хотя бы просто представить себе все это, потому что дальше мыслей и представлений она не продвигалась, фантазии вполне заменяли ей реальную жизнь.
Потом Маруся стала рыдать, у нее непроизвольно текли и текли слезы, ей было не остановиться, и она даже не хотела останавливаться, ей было даже приятно рыдать, и она все рыдала и рыдала… Поэтому когда раздался телефонный звонок, она долго не могла понять, кто же ей звонит, не могла узнать голос:
— Маруся, это же я, Павлик! Я приехал из Берлина на неделю, срочно собирайся и приходи ко мне, я там так скучал!
Павлик побрился наголо и был одет в белый свитер и черные джинсы:
— Я там болею. Ностальгирую. Посмотри, посмотри, сколько книг я себе купил, и все про Петербург. Как ты думаешь, у меня не шизофрения? А еще я недавно себе печать сделал — Шуман Павел Владимирович — это не признак шизофрении? Там у всех такие печати, ну не у всех, конечно, но у многих.
Павлик работал в Берлине в Доме для престарелых, проходил практику, потому что заканчивал учебу в медицинском училище, и скоро должен был стать врачом, за его учебу платил один довольно известный ученый, тоже врач, который во время войны был в плену под Курском и после этого очень полюбил русских. Павлик видел его только на фотографии, но ему казалось, что он на него очень похож, то есть в молодости, в эсэсовской форме, это был просто вылитый он. Павлик с ним познакомился по переписке и ни разу даже не встречался, ученый решил ему помочь заочно, таким образом, Павлику, можно сказать, выпала счастливая карта, счастливый билет.
Хотя, конечно, Павлика эти немцы уже порядком достали, но он не хотел бросать все на полпути, когда почти уже добился своего, ведь он скоро должен был получить немецкое гражданство, и у него тогда будет их целых два: русское и немецкое, — и он сможет, когда захочет, туда ездить, но вовсе не будет обязан жить там постоянно. Раньше он работал в магазине в аэропорту, целых три года отбарабанил, до тех пор, пока его там однажды не назвали «русской свиньей», один сотрудник того же магазина назвал, типичный немец, старый, высохший — Павлик подозревал, что он раньше тоже в СС служил. Тогда Павлик взял пакетик от своего завтрака — другой бумаги у него под рукой не оказалось — разорвал его, разгладил и написал на нем заявление в полицию, где подробно описал этот случай расовой дискриминации, но когда он принес это заявление в полицию, то там его долго читали, потом наконец подшили к делу и пообещали прислать извещение. Это извещение пришло только через несколько месяцев, и там даже не было описано точно, что, собственно, произошло, а просто говорилось, что «такой-то обидел такого-то», и даже адрес этого фрица, который его русской свиньей назвал, был тщательно закрашен синим карандашом. А еще через две недели Павлику пришло новое извещение, в котором его уведомляли, что его заявление считается недействительным, так как в нем отсутствуют подпись и дата, что уже было совершенным враньем. Просто полиция была заодно с этим немцем.
В медицинской школе, где учился Павлик, на уроках пения их обучали петь «Хава Нагилу», там он выучил, как по-еврейски «здравствуйте», «до свиданья», «как живете?». Он так и не понял, зачем их там этому обучали, но потом все это ему очень пригодилось. Вскоре он стал проходить практику, то есть он должен был сопровождать медсестер, когда те ходили по квартирам к разным старикам. Одну старую немку Павлик прозвал для себя «Пиковая дама», ей было лет девяносто, все руки у нее были в кольцах и перстнях, а слуховой аппарат на ухо ей надевали каким-то особым образом — не прямо, а наискосок, потому что она хотела, чтобы его надевали именно так. У нее в комнате стояло пианино, а сверху, на пианино — бронзовая женская фигура в вуали и длинном платье, с грустно опущенной головой, и внизу, у основания этой статуэтки, было написано по-немецки «Die Sehle», что означает «Душа». На пианино постоянно валялись раскрытые ноты, и эта старая карга регулярно садилась за него и пела: «Плачь, моя маленькая душенька, плачь!» — есть такая популярная немецкая песенка про душу. Павлик узнал, что ее муж когда-то служил в дивизии «СС» и не вернулся домой с восточного фронта. Он даже видел его портрет у нее над кроватью: улыбающийся, белесый, типичный немец! А так как их на занятиях учили, что во время процедуры врачу или медбрату следует напевать больному какую-нибудь мелодию — например, если больному назначен курс инсулина, то во время каждой инъекции нужно петь какую-нибудь одну и ту же песенку, тогда весь процесс лечения будет гораздо более эффективны — то Павлик и применил к старой немке этот метод: делал ей уколы и при этом пел «Хава Нагилу». Ну, а напоследок, в самом конце курса лечения, он сел за пианино и исполнил ей: «Вставай страна огромная!». Немка сидела и слушала его с открытым ртом. Павлик спросил ее:
— Ну как, понравилось? — и она восхищенно ему закивала.
— Ну тогда я вам слова оставлю, — сказал он и отдал ей текст, который перед этим на компьютере специально отпечатал.
— Я же по-русски не понимаю, — жалобно пробормотала она.
— Обратитесь к переводчику, — сказал он и протянул ей заранее заготовленный телефон переводчика по имени Арон, из их училища, который как раз с русского на немецкий переводил и тем зарабатывал себе на жизнь.
Поначалу Павлик всем больным при встрече по-русски говорил «Здравствуйте» и «До свиданья», но те жаловались, что его не понимают, и вообще, недоумевали, почему это он им по-немецки не может то же самое сказать. Тогда он стал всем говорить «Шолом» и «Азохен Вей» — и тут уже никто ничего ему возразить не мог, не решался. Разве что его начальник ему однажды деликатно намекнул, что неплохо бы ему у психиатра обследоваться: «Для вашего же блага», — сказал он, но ничего при этом не уточнил. Но Павлик и сам догадался, в чем дело, и действительно, пошел к психиатру, а тот дал ему справку, что он совершенно нормальный человек.
Кроме того, у них в клинике шла война двух кланов: старшая медсестра воевала со старшей уборщицей, — и все новички должны были к какому-то из этих противоборствующих лагерей примкнуть, но Павлик не хотел этого делать, он хотел, чтобы его оставили в покое, не трогали, с какой это стати он должен был еще к кому-то примыкать. Правда, ему его знакомый Арон сказал, что лучше примкнуть ко всем сразу, но Павлик его совету не последовал, он вообще терпеть не мог всех этих сложностей.
Потом его послали к одной русской, решили, видимо, что он по России скучает и хочет с кем-нибудь по-русски поговорить. Дверь ему открыла огромная жирная еврейка, лет восьмидесяти, не меньше, которая сразу же с подозрением на него уставилась и заявила:
— Вы звонили мне всего пятнадцать минут назад,
почему вы так быстро пришли? Ну ладно, вот чемодан, из которого надо аккуратно развесить все вещи, а я пока должна разыскать своего брата, Владимира Яковлевича Мееровича, посижу тут и обзвоню все школы…
Она своего брата никогда в жизни в глаза не видела, но почему-то именно сейчас решила его разыскать. Павлик вызвался помочь ей в розыске брата, но она велела ему заниматься чемоданом и не соваться в чужие дела. Затем она попросила измерить ей давление, которое оказалось у нее таким высоким, что Павлик очень удивился, что она вообще жива и еще двигается. Наконец, она отправила его в магазин, вручив ему сто марок и попросив купить ей икры, сыра, масла, в общем, всего самого лучшего и дорогого. Павлик сходил в русский магазин неподалеку, все это ей купил, принес и даже сдачу отдал. Он уже собрался было уходить, но она попросила его накрыть на стол и поужинать с ней. Павлик отказывался, говорил, что спешит, но она настояла на своем. Они сели за стол и поужинали. Затем она опять попросила его измерить ей давление, которое у нее немного снизилось, но все равно, оставалось таким, с каким нормальные люди не живут — во всяком случае, Павлик никогда раньше ничего подобного не встречал. Тут она стала предлагать ему услуги проституток, причем очень дешево, почти даром, и вообще, стала его выспрашивать о его личной жизни, всячески выуживать у него информацию… Наконец он все-таки ушел.
На следующее утро, когда он пришел в клинику, его вызвали к директору и показали компьютерную распечатку ее телефонного звонка, где она жаловалась на него начальству. По ее словам, она открыла ему двери только потому, что он назвался врачом, а он вызвался сходить в магазин и накупил ей там всего самого дорогого, чего она себе вообще позволить не может, потратил кучу денег, отнял у нее ее драгоценное время, ничего толком ей не сделал, ничем не помог, а только ее отвлек и ужасно утомил. В общем, эта старуха оказалась самой настоящей сумасшедшей, хотя на первый взгляд это было и не заметно, но только на первый взгляд. Павлик был уверен, что его к ней специально послали, чтобы подставить и сплести против него интригу, и все из-за этих козней старшей сестры против старшей уборщицы, в которых он не хотел принимать участия.
А козни эти были вовсе не шуточные. Например, одно время он ходил по вызовам с медсестрой Эвой, и Эва, которая работала уже давно и принимала активное участие в интригах, все время старалась узнать подробности личной жизни Павлика, но он ничем и ни с кем не делился. Как-то они пошли вместе к некой фрау Пауле Лангэке, что в переводе означает Паула Дальний Угол; та достала из шкафа шоколадные конфеты, ликеры, стала предлагать Павлику кофе, чай, минеральную воду, все, чего он пожелает. А Павлик как раз незадолго перед этим видел по телевизору рекламу про анисовое печенье, там говорилось, что анисовое печенье поднимает настроенье, и ему очень захотелось его попробовать. Придя на работу, он сразу же поделился с Эвой, что ему хочется анисового печенья. После обеда они пошли к Пауле Лангэке, и вот она вдруг сама предложила Павлику анисовое печенье, он просто обалдел, более того, у нее на кухне в большой медной кастрюле с теплой водой плавала чашечка с его любимым кофе, чтобы не остыл. Павлик обычно пил кофе без кофеина, и все об этом знали; кофеин вызывает болтливость, провоцирует к излишним откровениям, если, вы например, хотите развязать человеку язык, то налейте ему кофе, и он будет говорить час, как минимум. Поэтому Павлик на всякий случай перешел на кофе без кофеина. И вот эта фрау Лангэке ставит перед ним чашечку с кофе без кофеина и достает анисовое печенье. В этот же день они с Эвой пришли в следующий дом, где жила дряхлая восьмидесятилетняя Гертруда, и та тоже предложила Павлику чай, кофе и тоже достала из буфета и поставила перед ним анисовое печенье. Павлик очень удивился, но из вежливости все-таки поел этого печенья, хотя ему уже не особенно хотелось. Когда же они пришли к третьей старухе, Берте, и оказалось, что у нее тоже было припасено для Павлика анисовое печенье, он все понял: в это печенье было что-то подмешано. И действительно, вечером Павлику стало плохо, всю ночь у него было жуткое состояние, и наутро тоже, он даже позвонил на работу и сказал, чтобы ему дали больничный, потому что он был не в состоянии двигаться. Конечно, ему нужно было захватить образец этого печенья с собой и сдать его на анализ, но он сразу не догадался, а просто сидел, как лопух, и жрал печенье, только потом, задним числом, он сообразил, что его отравили, подмешали в печенье какие-то наркотики.
Вообще, эти немцы словами почти ничего не
говорят, у них все жестами выражается. Например, если он приходил к Пиковой даме, и у нее пианино было открыто, а на пианино стояли ноты, это значило, что она хочет, чтобы он ей сыграл. А если он приходил, и пианино было загорожено ширмой, на которой развешано разное тряпье, платья, нижнее белье, — это значит, что подходить к пианино не нужно и пытаться. Один раз дочка Пиковой дамы положила на кровать свои кружевные трусы, а на них — мобильный телефон и спросила его, что он делает сегодня вечером, это было такое неявное предложение развлечься. Но он ей ответил, что занят.
В целом же, в Германии ситуация теперь настолько ухудшилась, что немцы стали на стройках работать, это даже представить себе трудно, но это так — немцы теперь даже улицы метут, и помойки убирают, а раньше такого не было, раньше это делали только турки. При этом многие из них по-прежнему уверены, что скоро все народы будут работать на Великую Германию, и это время не за горами. Есть там у них такая организация «Помощь жертвам войны», так вот Павлик заметил, что помощь там получают исключительно бывшие эсэсовцы и гестаповцы, они все себя жертвами считают, то есть сами немцы и есть свои собственные жертвы. Павлика же эти немцы так достали, что он всерьез опасался, что в конце концов не выдержит и кого-нибудь убьет.
В самом начале, когда он только приехал, он познакомился там с человеком, у которого, по его словам, были русские корни, и тот пригласил Павлика в гости. Он сам и его друзья сели за стол, а Павлика посадили во главу стола, как на трон, отчего все во время еды на него пялились, а стол они сервировали по полной программе, положили ему рядом с тарелками по меньшей мере десять разных вилочек, ножичков и ложечек, специально, чтобы посмотреть, как он будет за них хвататься и что будет с ними делать. Хозяин начал, было, ему переводить слова присутствующих, но Павлик его прервал: «Не нужно мне переводить, я понимаю по-немецки», — и это им явно сломало кайф, они не ожидали, что он по-немецки понимает, собирались за ним понаблюдать, за его поведением, как за этаким недочеловеком, неполноценным существом, и все это комментировать, смаковать, каждый его жест, каждое его движение, а тут выяснилось, что он по-немецки понимает, так что все это оказалось невозможным, и хозяин был сильно разочарован…
В Берлине Павлик дружил с Юлиусом, любимым занятием которого была игра на рояле. Пособие по безработице он все тратил на покупку нот, этими нотами была заполнена вся его комната, и он даже ходил почти всегда с огромным чемоданом нот. У Юлиуса было очень много видеокассет с записями того, как он сидит и играет на рояле, эти кассеты он показывал всем своим знакомым. Он проникал в Филармонию бесплатно, на все концерты. Какая-то церковь подарила ему концертный рояль, и он разместил его у русских дам, одну из которых звали Наташа, а ему очень нравилось имя Наташа, поэтому он и согласился оставить рояль именно у них. Время от времени он приходил к ним и играл на рояле, выгнать его было невозможно, обычно он задерживался у рояля на неделю, как минимум. Играл он безумно — никогда не отпускал правую педаль. Юлиус постоянно жрал диазепам, чтобы успокоить свои расшатанные нервы.
Однажды они пошли в Филармонию вместе с Павликом — Юлиус и Павлика тоже провел бесплатно — Юлиус тут же проник в комнату, где репетировали артисты, сел и стал играть на рояле, который там стоял. Юлиус утверждал, что учился в Консерватории в Москве, но по-русски знал только два слова: «здравствуйте» и «пожалуйста». Он говорил Павлику, что у него есть родственники в Америке, хотя сам родился в Восточной Германии. Юлиус был худой и бледный, но энергии в нем была хуева туча, на свой внешний вид ему было абсолютно плевать, он никогда не мылся, и ногти у него были с черными ободками от грязи. Однажды он пришел в гости к Павлику и остался у него на неделю, после него в квартире еще долго воняло какой-то немыслимой смесью дерьма и духов, т.к. вместо того, чтобы мыться, он обычно поливал себя духами. Павлик поставил посреди комнаты пятилитровую кастрюлю и сжег там газеты, но этот запах все равно не выветривался еще две недели. Юлиус периодически звонил Павлику и говорил часами, а Павлик не имел права вставить ни единого слова, ему это запрещалось. Изъяснялся Юлиус обрывками фраз: «Мне плохо… у меня кончаются деньги… перезвони мне в телефонный автомат под таким-то номером…» — и Павлик сперва покорно перезванивал, пока не обнаружил, что угрохал на эти звонки уйму денег, и не прекратил это самым решительным образом.
Юлиус дружил с Робертом, который был очень умным, очень образованным, он закончил двадцать три семестра в Университете и знал несколько языков, хотя и нигде не работал. Родители периодически присылали Роберту деньги, и это его сильно испортило. Одно время Роберт работал уборщицей в гостинице, и ему было очень тяжело. До этого Роберт пытался писать рекламные тексты, но почему-то на этой работе он долго не удержался. Одна старушка подарила ему пальто своего покойного мужа, в котором он был на войне, и теперь Роберт с гордостью его носил. Еще раньше Роберт продавал по ночам бублики в пивных, местных Bier-барах, ходил с лотком на шее, совсем как наши коробейники. Сейчас в Берлине появились рикши, это очень модно — кататься на рикше, то есть они сами едут на велосипеде, а сзади к велосипеду приделана такая колясочка для пассажира. Роберт пробовал подработать и рикшей, но долго не выдержал, так как был очень нервный. Юлиус часто ему говорил: «Роберт, не нужно путать пианино с печатной машинкой! Пианино — это тонкий инструмент!» Хотя Роберт вообще не умел играть на пианино, это Юлиус просто так ему говорил, просто предупреждал. Еще Роберт писал рассказы, но издателя все никак найти не мог. Политикой Роберт не интересовался, но постепенно стал сочувствовать коммунистам, особенно после того, как хозяин, на которого он работал и который кормил его завтраками, в конце взял и не заплатил ему за работу. Вообще-то, Роберт должен был получать деньги каждый день, в конце рабочего дня, но он стеснялся спросить, и надеялся, что потом, в конце месяца, получит всю сумму сразу. А хозяин через три недели вообще исчез, скрылся в неизвестном направлении. В Университете Роберт изучал германистику, и еще философию на французском и немецком языках, у него в комнате было столько книг, что даже проход был затруднен, нужно было пробираться по тропинке среди книг, а спал он на подушках от дивана прямо на полу. Однажды он купил на улице две колонки по пятьсот марок, их продавали красивые молодые люди, ну Роберт и клюнул. Потом они с Павликом отнесли их в комиссионный магазин, потому что у них это были последние деньги, и даже хлеба теперь купить им было не на что.
В их медицинской школе, еще до Павлика, училась даже одна пятидесятилетняя женщина, она потом устроилась работать в Сенат, после того, как закончила свое обучение в этой школе. Вообще, после окончания этой школы можно стать директором дома для престарелых или просто попечителем слепого, глухого или немого, а среди них встречаются очень богатые и совершенно одинокие люди, и если им угодить, то они могут сделать тебя своим наследником.
***
Гена, напарник Васи, позвонил Марусе через день и попросил, чтобы она перевела один небольшой документ, письмо, на английский язык. Он попросил сделать это на ее собственном компьютере, потому что, по его словам, в офисе компьютера еще не было, да и принтера тоже. К Марусе тут же приехал высокий худощавый молодой человек с очень светлыми большими голубыми глазами, такими светлыми, что они казались белыми, и с очень маленьким подбородком, как будто подбородка у него не было вовсе. Он изысканно поклонился Марусе и, достав из внутреннего кармана своего замшевого пиджака бумаги, протянул их ей, сказав, что все это нужно перевести на английский язык, причем как можно скорее. Маруся заметила, что в пачке было не меньше двадцати страниц, но все равно, обещала сделать перевод к завтрашнему утру. Всю ночь она просидела за компьютером, потому что текст оказался не таким простым, речь шла о фильмах, и из-за обилия технических терминов ей приходилось постоянно лазить в словарь.
Она закончила перевод и уже начала распечатывать текст на принтере, когда вдруг снова зазвонил телефон, это был Гена, которому срочно понадобился обещанный документ, принтер же печатал медленно, и Марусе, по крайней мере, нужен был еще час. Когда Маруся попыталась объяснить ему ситуацию, Гена железным голосом сообщил ей, что оштрафует ее на десять долларов, ибо она обещала, и обещания своего не сдержала. Маруся стала спорить, что они не договаривались к определенному часу; с большим трудом ей удалось убедить Гену в своей правоте. Вскоре Гена приехал и, быстро забрав готовый перевод, удалился, прыгая вниз по лестнице через две ступеньки.
Через два дня Маруся отправилась в Дом Кино, в офис к Васе и Гене. Пройдя по длинному обшарпанному коридору, она очутилась перед железной дверью, обитой деревянными планками. Там уже стоял высокий человек с бледно-голубыми глазами, тот самый, который приходил к ней по поручению Гены.
— З-з-здравствуйте, — сказал он ей высоким дребезжащим голосом, чуть заикаясь, — а ключ у вас?
— Нет, — ответила Маруся.
— Тогда придется ждать. Кстати, давайте познакомимся, меня зовут Александр, и я буду работать здесь в качестве директора, — радостно сообщил он ей и, подойдя к стоящему тут же в коридоре столу, уселся на него и начал болтать ногами и насвистывать песню «Гуд бай Америка».
Наконец в коридоре появилась девушка с пышными вьющимися длинными волосами в коричневом пальто и в коричневом шарфе в желтую клетку с миловидным маленьким личиком, всем своим видом она чем-то напоминала небольшую аккуратную белочку. Она деловито подошла к дверям, достала из сумки связку ключей и открыла двери.
— З-з-з-здравствуйте Лиля, — обратился к ней Александр.
Они вошли в просторную комнату, в одном углу был установлен компьютер, у окна стоял стол с телефоном, а рядом — большой телевизор. Маруся обратила внимание, что рамы в окнах были все перекошенные и облезлые, но зато на полу лежало мягкое покрытие, а стены и потолок были отделаны светлыми панелями. Была еще вторая комната, в центре которой стоял большой круглый стол, в углу — еще один, поменьше, а на стене висел большой портрет Филиппа Киркорова.
— Ох, — сказала Лиля, — какая вчера была роскошная презентация! А сколько салатов осталось! Просто целые коробки уносили! И вина сколько было, и лимонада! Даже колбаса была твердого копчения, и сыр!
— Да, — со значением подтвердил Александр, — всех накормили, все журналисты остались довольны.
— Да, — тут же подхватила Лиля, — особенно тот, с красным лицом, покрытым прыщами, с блеклыми кудрявыми волосами и в очках, он пил с особенным удовольствием, и ему, кажется, даже было мало.
— Ну, такие аппетиты удовлетворить не просто, да мы, собственно, и не ставили перед собой таких целей, — улыбнулся Александр, — ведь нам и себе нужно было оставить.
И тут он широким жестом распахнул дверцы стоявшего рядом с ним полированного буфета, и Маруся увидела там целый ящик коньяка.
— А Гена разрешил? — спросила Лиля.
— Гена здесь не начальник, — ласково поправил ее Александр, — главный начальник здесь Вася.
Лиля тут же надулась, отошла в угол, села за свой стол и стала сосредоточенно перебирать там какие-то бумажки. А Александр, очень довольный, захлопнул буфет и, пританцовывая и прищелкивая пальцами, прошелся по комнате. Потом он подошел к компьютеру и уселся за него. Вскоре Маруся услышала странные звуки — щелчки, выстрелы, сдавленные крики, — а Александр то улыбался, то хмурился. На лице Лили тоже появилось любопытство, она встала из-за стола, подошла к Александру и остановилась за его спиной.
— Ой, а как же вы справитесь с этим чудовищем? — внезапно с волнением спросила она.
— Придется, придется, — сосредоточенно пробормотал Александр, продолжая двигать мышью по столу.
Марусе стало интересно, что же там такое происходит, и она тоже подошла к компьютеру. На экране она увидела длинный каменный коридор, по которому шел человек, видна была только его мощная спина, а перед этим человеком расстилалась широкая синяя гладь воды, окруженная высокими каменными стенами, и там, на этой воде, были островки, на которые прыгал человек, а вдали на крепостных стенах маячили силуэты не то людей, не то чудовищ, они угрожали главному герою, который, отстреливаясь, осторожно продвигался вперед, к какой-то главной цели. Маруся невольно загляделась на все это представление, особенно ей нравилось, когда герой прыгал в воду, и его осыпало миллионом хрустальных брызг. Александр же и Лиля, казалось, и вовсе были полностью поглощены этим занятием, Лиля даже принесла себе стул и пристроилась рядом, чтобы не стоять.
Тут зазвонил телефон, Маруся взяла трубку. Звонил Гена, он попросил Марусю срочно напечатать ему письмо на французском языке. Маруся подошла к компьютеру и сообщила Александру и Лиле, что ей нужно немного поработать, что Гена дал ей задание и скоро заедет сам. Но Александр даже не пошевелился, его лицо озаряла довольная улыбка, и он продолжал азартно передвигать мышь туда-сюда по столу. Лиля же с беспокойством покосилась сперва на него, потом на Марусю, встала и села за свой стол у телефона.
Вскоре дверь с шумом распахнулась, и в комнату стремительно вошел Гена — он был все с тем же портфелем и в том же кожаном пиджаке, он кивнул Александру и тут же обратился к Марусе:
— Ну что, готово?
— Нет, — ответила Маруся, — компьютер занят, — и она указала на Александра.
Тот с удивлением посмотрел на Марусю:
— Так что же вы мне не сказали сразу, что это срочно?
— Я вам об этом сказала, — возразила Маруся.
Александр пожал плечами и встал из-за компьютера. Гена стоял и молча смотрел то на Александра, то на Марусю, при этом на лице его было написано глубочайшее презрение. Пожав плечами, он удалился в другую комнату и захлопнул за собой дверь, по дороге игриво сделав пальцами Лиле «козу», в ответ она слабо захихикала.
Маруся села за компьютер и быстро сделала то, что требовал Гена. Александр тем временем сидел за другим столом и, посвистывая, смотрел в окно. Тут из-за запертых дверей раздался дикий вопль:
— Саша! Саша! А ну, бля, иди сюда!
Александр встал из-за стола, поправил прическу перед висевшим на стене зеркалом и решительно пошел на зов Гены. Вскоре из-за запертых дверей послышались крики, разговор явно велся на повышенных тонах.
Маруся постучала в дверь, но ей никто не ответил. Тогда она сама открыла двери и зашла в комнату. За столом сидел Гена, руки его были сжаты в кулаки, он весь трясся, перед ним стоял совершенно красный Александр и потирал скулу. Увидев Марусю, он весь дернулся и выскочил из кабинета. Маруся положила перед Геной на стол письмо.
— Мария, — строго сказал ей Гена, — я вынужден оштрафовать вас на десять долларов, так как вы сразу не выполнили мое задание.
— Но компьютер был занят,— стала объяснять ему Маруся, — я сказала Александру, но он никак не отреагировал…
— Мне неинтересно, кто в чем виноват, мне важен
результат. Мое задание должно выполняться немедленно, — отчеканил Гена, глядя прямо в глаза Марусе своим холодным рыбьим взглядом.
Маруся поняла, что спорить с ним бесполезно, повернулась и молча вышла.
***
Николай никому никогда не позволял садиться на свою кровать, только для Маруся он делал исключение. Недавно он прочитал в одной книжке по домоводству, изданной в 1953 году, что девушка никому не должна позволять сидеть на своей кровати. «А мы что, хуже?» — возмущался Николай. И когда кто-нибудь пытался сесть на его кровать, он мягко, но настойчиво сразу же предлагал пересесть на стул или на кушетку. Его приятель Сергей обладал привилегией снимать пальто в комнате Николая, а не в коридоре, где это полагалось делать всем остальным гостям. Марусе же разрешалось сидеть на кровати. На стенах комнаты висели фотографии Николая, на большинстве из них Николай был еще молодой и худой, он в разных костюмах, отделанных кружевами, пел на сцене, гулял по Берлину, а на одной даже совершенно голый стоял на четвереньках в кустах — это он изображал Тарзана в Центральном Берлинском Парке.
Когда Николай жил в Берлине, одно время он работал в баре «Гегель», пел песни и играл на рояле. Каждый вечер в этот бар приходила старая немка, вся иссушенная, очень похожая на старую эсэсовку, она регулярно напивалась и начинала его доставать:
— Скажи, русский, зачем ты сюда приехал? Что тебе
здесь надо? Скажи, ты приехал за нашими деньгами?
Николай сперва отвечал ей вежливо, что, мол, ему хотелось увидеть, как живут в Германии, что он очень любит немецкую культуру, немецкую литературу и живопись. Но она каждый вечер начинала все по новой:
— Зачем ты приехал сюда? Ты хочешь отнять деньги
честных немцев?
Наконец Николай не выдержал и сказал:
— Хорошо, я скажу тебе, зачем я сюда приехал, только тебе это может не понравиться, я тебя сразу предупреждаю!
Она с любопытством приблизила свое ухо к его рту, и он тихо и холодно ей сообщил:
— Я приехал посмотреть на людей, которые убили моего дедушку!
Тут она вся скорчилась и сразу же отвалила в свой угол, и больше никогда не приставала к нему со своими дурацкими вопросами.
Николай жил в Берлине у немки по имени Эльза, которая периодически предлагала ему заняться с ней сексом, «гигиеническим сексом», как она выражалась, и его это ужасно доставало. Он ей говорил:
— У нас, русских, свои законы — сперва в церковь, а потом уж в постель! У нас так не принято, как у вас, мы гигиеническим сексом не занимаемся!
У Эльзы была своя квартира и еще домик в окрестностях Берлина, и кроме того, дочь двенадцати лет. Эльза была типичная немка, с ногой сорок второго размера, белесыми бровями и ресницами, такими же бесцветными волосами, и бесцветными рыбьими глазами, но она любила Николая и хотела ему добра. Николай тоже по-своему любил Эльзу, он даже водил ее в оперу и пытался всячески приобщить к культуре, ведь она была школьной учительницей, и должна была тянуться ко всему прекрасному и высокому, нельзя же жить без воздуха, например. Однако секс все же был ему необходим, поэтому по ночам Николай приводил к себе мужиков, это были поляки, русские, англичане, немцы и даже один рыжий австралиец, которого Николай ласково называл «кенгуру», а иногда попадались и черные, ведь черные ничуть не хуже белых, а в определенном отношении даже и гораздо лучше. Эльзу все это ужасно раздражало, тем более, что с ней Николай сексом заниматься не хотел. В конце концов, она просто выгнала Николая из своего дома.
Николай был родом из города Соликамска, а его бабушка даже видела тунгусский метеорит, она была настоящей долгожительницей. Николай женился на ленинградке, и у них родился сын, и одно время они жили семейной жизнью. Однажды он познакомился с композитором Красиновым, который обещал помочь Николаю сделать его звездой эстрады, в общем, они с ним очень подружились, и тот, как ему казалось, прекрасно к нему относился. Но однажды он зашел в комнату, а родственники композитора и он сам рассматривали его фотографии, в том числе фотографии его родителей, и дико ржали, и тогда это ужасно задело Николая, ему было очень больно, но потом, с годами, он постепенно привык к человеческой низости и подлости.
А те фотографии потом украли мерзкие негры, его соседи по квартире в Берлине. Сперва они показались Николаю замечательными людьми, такими добрыми, хорошими, и только потом он понял, какие это сволочи. Они украли все его фотографии — даже его мамы, когда она была еще им беременна, и его отца, и сестры, и бабушки, которая видела тунгусский метеорит, и вообще, все-все-все фотографии, наверное, они им понадобились для проведения различных мерзких ритуалов.
***
Целый год марусина мама ухаживала за матерью соседки, Виолетточки, Марьей Савельевной, которая уже давно была тяжело больна, просто дышала на ладан, да и сама Виолетточка тоже была инвалидом первой группы, у нее часто случались эпилептические припадки, так что за ней за самой нужно было присматривать, а за своей мамой ухаживать она была просто не в состоянии. Виолетточку часто можно было видеть у парадной в компании пьяных мужиков, каких-то совершенно синюшных отъехавших личностей, потерявших человеческий облик, Виолетточка квасила вместе с ними, а потом частенько валялась пьяная там же, у парадной, вся обоссанная и обосранная, и марусиной маме приходилось даже несколько раз вызывать «скорую». Иногда припадки с ней случались прямо в квартире, что было даже хуже, так как там она была одна и могла упасть, удариться обо что-нибудь головой и помереть. А поскольку Марья Савельевна работала еще с марусиной бабушкой, марусина мама считала своим долгом все же как-то проявлять заботу о Виолетточке, к тому же, она знала ее с детства, в молодости Виолетточка была очень красивая, вылитая Грета Гарбо, но потом она стала сильно квасить и заниматься блядством, она приставала даже к марусиному отцу — когда тот возвращался домой, она подстерегала его на лестнице и приглашала зайти в гости, и на лице у нее была эта ее неизменная блядская улыбочка.
Из-за этих ее припадков однажды марусиной маме пришлось даже вызывать милицию и вскрывать дверь в виолетточкину квартиру, и тогда, кстати, вовремя успели — опоздай они хоть на час, Виолетточка бы окачурилась, она лежала в своей кухне, головой к двери и ногами и окну, при падении она ударилась затылком о косяк и так и валялась там, но ее увезли в больницу и откачали.
Поэтому поначалу, когда на нее хотели повесить еще и уход за Марьей Савельевной, мама отказалась, тогда та сказала, что оформит на нее завещание, потому что ей принадлежала отдельная однокомнатная квартира, и эта квартира ее дочери Виолетточке не нужна, так как у Виолетточки была своя отдельная, после этого марусина мама согласилась.
Марья Савельевна написала завещание и отдала его марусиной маме. Марусина мама, как порядочный человек, периодически ездила к ней, покупала ей сардельки, даже варила их, раз в неделю подметала у нее в комнате, в общем, делала все, что обещала, а Виолетточка за все это время ни разу даже не поинтересовалась самочувствием своей мамаши, и тем более, ни разу к ней не приехала. И вот теперь, постепенно, Марье Савельевне становилось все хуже и хуже, марусина мама уже готовилась к тому, что она не сегодня-завтра помрет.
Однажды Маруся пришла к маме как раз тогда, когда раздался телефонный звонок — звонила виолетточкина мамаша. Мама вся поморщилась и даже включила телефон на громкую связьость, чтобы сидевшая рядом Маруся все слышала, так ей было приятней с ней разговаривать, немного легче, настолько Марья Савельевна и ее дочка маму достали. В телефоне раздался дрожащий голос Марьи Савельевны, она сообщала, что чувствует себя очень-очень плохо, так плохо, что, видимо, вот-вот умрет, и что она даже разослала телеграммы всем своим родственникам, в том числе в Мурманск и Новгород, и что они теперь все приехали, и в эту трудную минуту все находятся рядом с ней, кроме того, на семейном совете они решили, что марусина мама очень мало ей помогала, редко ходила в магазин, почти не давала ей денег, и вообще, ухаживала за ней очень непродолжительное время, поэтому Марья Савельевна решила отозвать свое завещание, в котором передавала свою квартиру марусиной маме, и теперь ее квартира достанется родственникам, а точнее, ее дочери Виолетточке, которая, к тому же, является инвалидом первой группы, так что в данном случае закон на их стороне.
Голос Марьи Савельевны, действительно, был очень слабым и дребезжащим, она говорила с большим трудом, делая паузы, чтобы отдохнуть, и в это время в телефоне слышались какие-то хрипы…
— Понятно, понятно, — все время повторяла марусина мама, по мере того, как Марья Савельевна сообщала ей всю эту информацию, голос мамы, напротив, становился все более сладким и вкрадчивым, — Ну что ж, Марья Савельевна, спасибо вам большое за все, вы меня очень-очень порадовали, спасибо… Еще раз вам спасибо, и счастливого вам пути! — наконец сказала она и бросила трубку.
В это мгновение из телефона доносились по-настоящему пугающие хрипы, которые оборвал резкий длинный гудок…
***
Каждый день, ровно в десять Маруся должна была быть в офисе, Гена лично звонил и проверял. Если она опаздывала, он сразу же называл сумму штрафа, в конце концов, она стала его бояться, у нее выработался условный рефлекс.
Вася же появлялся в офисе редко, перед тем, как приехать, он всегда звонил и говорил Марусе: «Дорогая, я буду через пятнадцать минут, подожди меня!» А сам приезжал через два часа. Маруся терпеливо его ждала, даже когда ее рабочий день уже заканчивался, она все равно его ждала, и в результате, часто уходила с работы в десять, а то и в одиннадцать часов вечера. Вася приходил всегда пьяный, иногда он приносил с собой бутылку французского коньяка, которую ставил на стол перед собой, время от времени отпивая из нее, и никогда никому не предлагая выпить с ним за компанию. Правда, в буфете стояла бутыль разбавленного спирта, и он охотно позволял своим сотрудникам пить этот спирт, сколько те захотят. Однако Лиля вообще пить отказывалась, Александр тоже не пил, пил только новый сотрудник Васи, который недавно появился в офисе, неопределенного возраста, вертлявый, услужливый, с красным прыщавым лицом, красной лысиной и остатками рыжих волос, закрывавших эту лысину, глаза у него были неопределенного желтовато-серовато-зеленоватого цвета, и он все время улыбался какой-то неопределенной полу-улыбкой. Всем своим обликом он напоминал гладкое, неоднократно облизанное, чуть полинявшее, но все же яркое пасхальное яйцо, он и ходил, как будто перекатывался. Заходя, он говорил: «Ой, привет, Лилька! Ну как у тебя дела? Ты, вроде, поправилась…» При этих словах Лиля надувалась и уходила в другую комнату, откуда вскоре доносились рыдания, а рыжий Сергей очень веселился.
К Лиле был неравнодушен Гена, именно он привел ее на работу в офис. Раньше она работала в кинотеатре «Аврора», выполняла все те же секретарские обязанности, хотя она не умела печатать, не знала ни одного языка и даже писала с ошибками. Ее муж, бывший военный, работал в одном из банков, куда его устроил приятель. Пять лет назад Лиля пережила ужасную трагедию — они с мужем жили тогда в маленьком городке в Средней Азии, где он служил. Ее подруга пошла прогуляться одна ночью, и ее изнасиловали и убили. Лиля с тех пор стала страдать неврозом и навязчивыми идеями, в частности, она ужасно боялась поправиться, поэтому однажды, когда незаметно для себя прибавила в весе два килограмма, обнаружив это, она долго и безутешно рыдала, а потом вообще перестала есть, чем вызвала настоящий ужас у своих родителей и мужа. Гена уже давно приметил Лилю, для него она была воплощением неземной красоты, возвышенной мечтой, он так и называл ее: «Моя принцесса». Но он никогда ничего Лиле не дарил, и в офис к чаю ни разу не принес ей даже шоколадку, вообще, и чай и сахар сотрудники должны были покупать за свой счет. Тем не менее, Гена, приходя в офис, неизменно требовал себе чаю или кофе.
Однажды Александр купил самый дешевый кофе, очень плохой, и принес чашку этого кофе Гене, Гена его доверчиво отхлебнул, но тут же весь перекосился, отодвинул чашку подальше от себя и больше уже не пил. Он не мог ничего сказать, потому что как раз в это время беседовал с важной дамой в блестящих кожаных сапогах до бедра и с огромной крокодиловой сумкой через плечо, даме Александр, кстати, тоже подал чашку того же напитка, но она ничего не заметила и выпила все, не моргнув глазом. Потом Гена, правда, поинтересовался у Александра с некоторым подозрением:
— Что это за бурду ты мне принес?
А Александр совершенно невинно ответил ему:
— Это кофе, который мы пьем.
И Гене нечего было возразить.
Иногда Гена звал Лилю к себе в кабинет и закрывал дверь на ключ, из кабинета тогда доносился сдавленный визг и шепот, а потом Гена и Лиля выходили оттуда красные, как из бани, и Гена удовлетворенно отдувался, а Лиля скромно смотрела в пол. Но до конца Гене Лиля из принципа не уступала, об этом она рассказывала Марусе, жалуясь ей на то, какой Гена жадный, что он все хочет найти себе девушку, чтобы ничего ей не дарить и не платить, просто ужасно скупой, ну нельзя же так, ему даже уборку в квартире делала его бухгалтер Вера, которую он ласково называл Верунчиком.
Верунчик тоже иногда приходила в офис, там она составляла длинные бухгалтерские отчеты, и Гена ее очень ценил, потому что она была ему предана, как собака. Придя в офис, она всякий раз брала веник и начинала все подметать и убирать, при этом она делала язвительные замечания Лиле, а Гену называла только «Геночка» даже за глаза. Гена на день рождения своему Верунчику позволил купить костюм стоимостью в пятьсот долларов, а деньги каким-то образом провел через бухгалтерию как расход фирмы. Вообще, Гена постоянно приносил Верунчику чеки на все покупки, которые он делал: одеяла, простыни, носки, трусы, кастрюли — все это Верунчик списывала на расходы фирмы. Даже счета из ресторанов, где Гена обедал с какими-то неведомыми девушками, и те Верунчик проводила через бухгалтерские отчеты.
Лиля всегда внимательно прочитывала эти счета и громко восклицала: «Ого! Смотрите: шашлык из осетрины — 25 долларов, порция мороженого — 15 долларов, вода минеральная — 3 доллара! И все это на два лица, то есть умножайте на два, короче говоря!». Верунчик обычно скептически поджимала губы и не принимала участия в обсуждении гениных похождений, а Лиля очень любила это делать, особенно часто она критиковала девушек, с которыми Гена посещал эти рестораны, хотя видела она далеко не всех. Гена купил себе старую машину «Ауди», и иногда даже подвозил Лилю до метро, а иногда брал ее с собой в деловые поездки по городу. Гена никогда не расставался с мобильным телефоном и периодически звонил в офис, чтобы проверить, на месте ли Маруся.
Однажды Гена забыл ключ от офиса, а второй ключ был у Александра, который отлучился пообедать как раз тогда, когда Гена приехал в офис, и Гена с Лилей битый час должны были стоять у дверей в обшарпанном коридоре, причем Гена жутко злился. Лиля предлагала Гене следующий план: она заходит в соседний офис, где располагалась школа красоты, выходит из окна, проходит по широкому карнизу и через окно проникает в «Му-му» (так называлось агентство Гены и Васи, по аналогии с передачей, которую Вася вел на телевидении), благо окна уже давно не закрывались на задвижки, которые были сломаны. Гена, было, согласился, но потом все же решил, что не стоит рисковать, — а вдруг Лиля сорвется вниз и упадет, она ведь ему очень нравилась, и он не хотел рисковать жизнью своей принцессы. Когда пришел Александр, Гена на него ужасно орал, он вопил, что можно поработать и без обеда, что можно попить чаю в офисе, что он и так работает неполный день, поэтому совсем не обязательно уходить на целый час. Александр в ужасе смотрел на Гену сверху вниз, у него дергалась щека и дрожал подбородок, но он ничего не мог сказать, казалось, он вообще лишился дара речи.
***
Николай всегда очень внимательно следил за тем, как курят марихуану — никто не должен был задерживать косяк. Один его знакомый юноша как-то слишком долго держал косяк, чересчур жадно и старательно затягиваясь. Николай смотрел, смотрел, потом не выдержал и раздраженно ему заметил: «Дорогой, я знаю, что ты нечасто это делаешь, но передавай, пожалуйста, косяк дальше, не задерживай.» Юноша тут же испуганно отдал косяк ему, а через некоторое время ему стало плохо, он встал, хотел выйти из комнаты, но утратил координацию движений, стал беспорядочно махать руками из стороны в сторону, побелел, как бумага, и рухнул на пол тут же у двери. Николай очень испугался, он как раз собирался пойти в ночной клуб вместе со своим приятелем и даже надел для такого случая свою любимую красную футболочку и красные брюки. Он уже договорился со своим знакомым американцем Майком, для которого он обычно снимал в этом клубе проституток подешевле, а Майк взамен покупал ему выпивку и давал двадцать долларов на карманные расходы. Николай уже совершенно настроился идти в этот клуб, а тут вдруг этот идиот потерял сознание. Николай быстро достал из аптечки нашатырь и сунул ему под нос — вдвоем с приятелем они взгромоздили его на табурет, он пришел в себя, но ничего не говорил, а только блаженно улыбался. Николаю же главное было вывести его из квартиры на улицу, чтобы с ним не возиться, к тому же, он уже опаздывал, а приятелю все это уже порядком надоело и он, кажется, даже собирался уходить. А тот идиот вдруг стал проситься в туалет, Николай же ничего не мог поделать, не мог же он его просто спустить с лестницы, он, как порядочный человек, повел его по длинному коридору в сортир и даже стоял, караулил у двери, дожидаясь, пока выйдет, в общем, его все это ужасно достало. Потом они взяли того идиота под руки, вывели во двор и усадили на скамейку, прямо в мокрый снег. Николай говорил Марусе, что точно такой же случай был с ним в Берлине много лет назад, когда его в усмерть укурили какие-то турки в одном злачном притоне.
Николай тогда снимал комнату у Андрея, потом, правда, Николай с Андреем ужасно поссорились. Андрею стало казаться, что Николай слишком много из себя изображает, какую-то недоступную звезду, и Андрея стало это раздражать, поэтому они разосрались. Вскоре Николаю вообще предложили искать себе другое жилье, потому что он очень часто водил к себе каких-то подозрительных личностей, а их квартиру недавно обворовали — украли магнитофоны, видик у Андрея, и еще какую-то одежду. Старушка-соседка, работавшая билетершей в Большом Драматическом Театре, сразу заявила Николаю, чтобы тот искал себе другое жилье, и Андрей даже не стал его защищать, а сразу же согласился с ней. Тут вдруг в квартире случился еще и пожар, сгорела комната Андрея — сгорели все его фотографии, все кассеты с записями песен Аллы Баяновой и Аллы Пугачевой, которую он просто обожал, сгорел портрет мальчика в ботиночках и даже лысая кошка, которую Андрей недавно спарил с таким же породистым котом и потомством которой собирался торговать. А Николай вскоре переехал на новую квартиру и Андрею даже не звонил.
В комнате у Николая в огромном количестве хранились книги шестидесятых годов издания, журналы, разные значки, коробочки, баночки, щеточки, игрушки, а на самом почетном месте, на диване на шелковой подушечке, восседала огромная розовая плюшевая свинья с розовым бантом на шее и розовым хвостиком-штопором, по словам Николая, ее ему подарила Илона, дочь Эдиты Пьехи, и эта свинья напоминала ему о ней. Потом Николай поссорился с Илоной, и она даже не хотела подходить к нему, если они случайно встречались на улице. Как-то Николай поехал в Москву, и Илона видела его на Ленинградском вокзале, но не подошла, потому что ей было противно, она рассказала об этом приятелю Николая Мишеньке, а Мишенька уж потом передал Николаю.
Потом Маруся подарила ему на день рождения игрушечного плюшевого кабанчика, очень большого, мягкого, коричневого, с маленькими белыми кожаными клыками, красным язычком и круглыми вытаращенными глазками. Николай, прижав кабана к груди, долго ее благодарил: «Спасибо Марусечка, спасибо, дорогая, лучшего подарка ты мне сделать не могла!», а потом взял кабана и торжественно усадил его на спину розовой свиньи со словами: «Ну вот, теперь моя скульптурная композиция завершена. Пара для моей свиньи найдена. Они будут трахаться.»
***
В начале передачи у Васи обычно появлялся маленький мальчик, васин сын, он сидел на большом деревянном кресле, болтая ножками, протягивал вперед ручки и лепетал «му-му». Кроме того, Вася придумал символ для своего агентства — сперва это была большая красивая пятнистая корова, но потом, поразмыслив, он сделал символом агентства маленькую собачку, она украшала вход в офис, и она же была изображена на круглой печати. Вася даже придумал своеобразное приветствие. Здороваясь с кем-либо из своих гостей во время передачи, он вскидывал вверх руку, как бы приставляя к своей голове рожки, и произносил «му-му», улыбаясь при этом своей обворожительной улыбкой. Эти же слова он произносил на прощание. И все гости, среди которых были весьма солидные и уважаемые люди, должны были отвечать ему тем же.
Рыжий вертлявый Сергей, приятель Васи, с которым он познакомился как-то в поезде, когда они ехали на кинофестиваль в Сочи, оказался очень активным юношей: он выпил у Васи весь спирт из буфета и уже подбирался к дорогому коньяку — но Вася вовсе не собирался ему это спускать, и периодически указывал ему его место. Сергей жил недалеко от Сенной площади вместе со своей глухонемой матерью: в одной комнате жила его мать, сорок кошек и шесть собак, а в другой комнате жил он сам.
Его мать, когда он был маленький, сдала его в детский дом, где над ним ужасно издевались. Воспитательница-садистка засовывала ему в штаны ледышки, и за шиворот тоже, и еще заставляла его пить собственную мочу, она делала то же самое со всеми детьми, но с ним чаще, потому что он был самый бойкий мальчик и просто не мог молчать. Он видел, как после работы воспитатели тащат домой целые сумки, набитые едой, а их кормили жидким супчиком, в котором не то, чтобы мяса не было, а даже вермишель встречалась очень редко. Потом его мать вышла замуж, и ее новый муж взял Сергея из детского дома обратно. Сергей очень полюбил его и называл «папой». С тех пор он вообще стал любить мужчин больше, чем женщин, потому что свою мать он просто презирал, хотя и чувствовал к ней некоторую жалость.
Большую часть времени он жил у своего приятеля, который тоже жил с матерью. Мать приятеля ужасно много жрала, она сжирала в день по две буханки хлеба, кастрюлю супа, если он покупал колбасу, то ему приходилось эту колбасу прятать, иначе исчезало сразу все, она сжирала также и сахар ложками, гречневую кашу, горох — короче, все, что находила из припасов. Поэтому Сергей и его приятель старались скрывать то, что покупали, или же съедали сразу все, потому что они просто были не в состоянии позволить себе покупать столько продуктов. Приятель Сергея любил свою мать и совсем не желал ей зла, к тому же, она была блокадным ребенком, но он просто был не в состоянии удовлетворить ее гигантские аппетиты.
Сергей познакомился с Васей по дороге на фестиваль в Сочи, он ехал в составе съемочной группы фильма, где он снялся в эпизоде, ну а Вася делал передачу об этом фестивале. Они стояли вместе в коридоре, вдруг посмотрели друг на друга, и им все сразу стало ясно, они пошли в купе. Сергей вообще был очень добрый и привязчивый юноша, он полюбил Васю и потом долго у него жил и помогал ему: ходил за покупками, убирал квартиру и даже иногда еду готовил. А жена Васи, Светка, все время валялась на кровати, и не хотела ничего делать, а только вопила на Васю и на Сергея, хотя Сергея у них в доме только кормили, а за работу ничего не платили.
Правда, у Сергея была еще одна работа: он обслуживал пожилых людей, склонных к садомазохизму, он облачался в кожаные трусы и армейские сапоги, привязывал их к батарее, наливал им водки в блюдечко, заставлял лизать свои ноги, а если они отказывались, бил их хлыстом. При этом ему приходилось при необходимости оказывать им первую медицинскую помощь, потому что иногда у них отказывало сердце, ведь они были пожилыми людьми, и на этот случай у него всегда находился с собой корвалол, валидол, и он специально закончил курсы медсестер и умел делать искусственное дыхание и массаж сердца. У него даже была своя клиентура по городу, и он, благодаря этому занятию, имел в месяц где-то долларов двести, но нерегулярно, к тому же, времена сейчас настали тяжелые, и у пенсионеров не всегда водились средства, они переживали материальные затруднения.
Однажды Светка заявила прямо в присутствии Сергея, что тот слишком много жрет, она сказала это прямо за столом во время обеда, и у Сергея просто кусок застрял в горле, он чуть не подавился — так он сам потом всем рассказывал. А Светка, в свою очередь, всем жаловалась, что ей было просто неудобно за него перед гостями, так как один ее знакомый как-то даже сказал про Сергея, что у него такой вид, будто крепостное право у нас никогда не отменяли.
Но вскоре ночью у Васи случился ужасный приступ, у него отказали почки, потому что он целую неделю перед этим пил без просыпу, и вот ночью ему стало плохо, он забился в конвульсиях, изо рта пошла пена. Светка стала вопить и рыдать: «Умирает, умирает!». И Сергей буквально на руках вынес Васю на улицу, там поймал машину, довез до больницы, где ему оказали первую помощь, в общем, спасли. После того случая Вася и предложил Сергею работать у него в офисе, правда, платить ему тоже должен был Геночка, потому что Геночка у них отвечал за финансы.
Александр же и вовсе работал у Васи бесплатно, но зато в трудовую книжку ему записали, что он работает в Агентстве «Му-му» исполнительным директором, и Александра это вполне устраивало. Раньше Александр был комсомольским работником, жил припеваючи и постоянно ездил в заграничные круизы — у него даже сохранились видеозаписи этих поездок, где они с женой, одетой в блестящее платье, причесанной и накрашенной по моде, то сидят за столиком в компании плечистых мужиков и их жен и подруг, то танцуют под звуки там-тамов, а мускулистые негры пляшут на эстраде, то купаются в бассейне с небесно-голубой водой, то плывут на яхте по океану и вылавливают из океана диковинную рыбу, а все вокруг аплодируют и пьют шампанское прямо из бутылок. Александр неоднократно приносил эту видеокассету в офис и прокручивал ее Лиле и Сергею, при этом Лиля завистливо вздыхала, а Сергей хихикал и отпускал всякие циничные шуточки, вроде «а это кто в короткой маечке, я, Сань, такую же хочу!», чем крайне раздражал Александра.
***
Когда Николай приехал из Западного Берлина, он одно время жил у Миши, и Миша ему ничего не говорил, наоборот, он был рад, а Николай разбросал по комнате все свои вещи, так и оставил валяться чемоданы, рюкзаки, его трусы и носки лежали даже в коридоре, и мишиным престарелым родителям всякий раз приходилось через них переступать, а это было не очень удобно. Николай тогда снимал свой клип на телевидении, и к нему постоянно приходили всякие продюсеры, режиссеры, монтажеры. Они сидели прямо посреди этого хаоса, пили пиво, курили, иногда Миша ставил им кассеты с записями своих выступлений на радио, где он несколько лет назад вел передачи о сексе. Маруся тоже слышала одну из них, на которой позвонившая в студию старушка возмущалась нынешней модой «сосать». Эту кассету Миша ставил чаще всего. Все очень веселились. Иногда Николай давал Мише деньги, пару раз даже марок по двести, тогда это были просто огромные деньги, и Миша был счастлив и благодарен Николаю, но потом все это забылось «как все хорошее» — говорил Николай Марусе, скорбно покачивая головой.
Миша подрабатывал парикмахером, он стриг всех своих знакомых и знакомых Николая, а также дочь самой Эдиты Пьехи — Илоночку; правда, она к нему сама не приходила — к ней он обычно выезжал на дом. Миша с Николаем дружили уже давно, они то ссорились, то опять мирились, иногда ссоры были очень затяжными. В последний раз они поссорились из-за Маруси, из-за того, что она передала Николаю слово в слово все, что Миша рассказал ей про него, когда ее стриг, и в частности то, какой Николай бездарный неудачник.
Николай с Мишей вместе учились в школе, и у Миши даже сохранилось его сочинение про то, как он ходил на демонстрацию, кто там стоял на трибуне, про огромные портреты Ленина и знамена, Миша давал это сочинение читать всем своим знакомым, предлагая обязательно прочесть его вслух, это их ужасно веселило. Маруся тоже читала вслух затрепанный замусоленный листочек со стершимися машинописными буквами, а Миша с Николаем, пока она читала, не сводили с нее глаз, на их лицах застыли улыбки, и они то и дело разражались веселым хохотом. Самым забавным им казалось описание того, как в момент, когда папа подводил Мишу к трибуне, воздушный шарик в его руке неожиданно лопнул, и стоявший на трибуне дядя так испугался и дернулся всем телом, что каракулевая шапка с его головы упала на землю. «Да, Мишенька, ты уже в детстве был грозой партноменклатуры», — говорил Николай.
Миша выглядел очень молодо, когда Маруся впервые его увидела, она подумала, что ему лет двадцать пять, не больше, она поделилась своими соображениями с Николаем, но тот вдруг весь перекосился и злобно ответил, что они с Мишей ровесники. А Николаю было уже за сорок. Сам Миша на вопрос о том, сколько ему лет, обычно отвечал, что он родился в шестидесятые годы. Миша писал короткие рассказы и пьесы в жанре притчи или басни и сам их издавал — клеил тонкие книжечки и делал к ним иллюстрации. Одна из его пьес называлась «Свекла и Пастернак». Пастернак был высокий тощий господин в цилиндре и с тросточкой с огромным крючковатым носом, а Свекла — жирная толстая расплывшаяся баба на коротких ногах, они спорили о смысле жизни, в результате никто из них не оказывался прав. В самом конце пьесы Свекла спрашивала у Пастернака, не еврей ли он. Фамилия Миши была Раскин.
Однажды Маруся пришла на выступление Николая в одном из ночных клубов вместе со Светиком. Николай в этот вечер выступал вместе с Мишей, и как раз в тот момент, когда Маруся и Светик вошли в зал, Николай пел песню на стихи Миши про инопланетян. Светик сразу же заметил Мишу и спросил у Маруси, кто это. Услышав, что фамилия Миши Раскин, Светик сразу же вскочил и начал бегать по клубу, громко всех переспрашивая:
— Как, как, Пидараскин? Почему здесь в клубе выступает артист Пидараскин? — сначала Светик побежал к бармену, потом к охраннику, а потом и к директору клуба…
Он носился, как сумасшедший, и кричал, задавая всем один и тот же вопрос:
— Почему здесь выступает Пидараскин?- успокоить его было невозможно, в конце концов, его пришлось просто вывести…
У Николая был замечательный голос, почти как у Фредди Меркьюри, он зарабатывал тем, что пел в ночных клубах и ресторанах Петербурга, а также иногда давал сольные концерты, на одном из таких концертов они и познакомились с Родионом. Родик зашел к нему за кулисы, Николай, усталый и весь потный, сидел на стуле в своей любимой красной футболке и красном комбинезоне, сшитом ему соседом Андреем, который, кстати, прекрасно шил, он ел бутерброд с колбасой, запивая его коньяком из пластмассового стаканчика, при этом у него был такой довольный и трогательно умиротворенный вид, как у рабочего на стройке, достойно завершившего свой трудовой день.
Родик какое-то время жил у Николая, а потом ушел к Юле, ему хотелось упорядочить свою жизнь, но никак не получалось, потому что он часто встречал Николая в разных местах — в кафе, клубах, ресторанах и кинотеатрах. Николай многозначительно смотрел на него и улыбался особенным образом, отчего Родик невольно вспоминал, как им было хорошо вместе. Юля все время устраивала ему скандалы, потому что чувствовала, что тот ее не любит, и Родик стал все чаще думать о возвращении к Николаю, который давал ему деньги, покупал выпивку и траву.
Однажды Николай встретил Юлю и Родика в гостях у своих знакомых. Было очень много выпивки и жратвы. Юля, как всегда, напилась и вдруг вскочила на диван, который стоял у стола, взгромоздилась на плечи Родику и завопила:
— Ну все, бля, давай, вставай, поехали! — но не рассчитала, к тому же Родик качнулся вперед, и она своей рожей въехала прямо в стоявший на столе салат.
Однако это, кажется, ее мало смутило, потому что она все продолжала вопить:
— Давай, покатаемся!
А все присутствующие смотрели на нее молча, в совершенном ужасе. Вскоре, правда, они вообще перестали обращать на нее внимание и заговорили между собой о своих делах. Знакомые Николая говорили про Париж, о том, как там можно заработать. Услышав слово «Париж», Юля тут же влезла в разговор:
— Вы что, были в Париже? Вот я прошлым летом туда прокатилась, очень даже неплохо, а вы что, тоже там были?
Хозяева с удивлением взглянули на нее, и с нескрываемым возмущением, даже, можно сказать, свысока ей ответили:
— В Париже? Были? Да мы, дорогая, вообще-то там живем…
После этого Юля резко замолчала, для нее это был просто такой облом, что и передать нельзя.
***
Марусина мама все мечтала похудеть, ведь лишний вес вреден для здоровья, не говоря уже о том, что это некрасиво, да и одежду трудно найти себе подходящую. Тут как раз все стали рекламировать чудодейственный препарат для похудания, «Гербалайф», даже на улице подходили и предлагали купить этот «Гербалайф», правда, эти тетки, что предлагали его купить, сами были толстые, как свиньи, но все же мама ознакомилась с аннотацией на этот препарат, и ей все это показалось достаточно разумным и полезным, однако нужно было остерегаться подделок. Поэтому она нашла в газете объявление, где было написано, что продается настоящий Гербалайф, с сертификатом качества.
Приятный мужской баритон ответил ей по телефону, что она сделала правильный выбор, обратившись именно к нему, так как он сам был кандидатом медицинских наук, работал по совместительству в Военно-Медицинской Академии, а продажей Гербалайфа занялся просто из любви к людям, из гуманных побуждений: больших денег это не приносило, но всегда ведь приятно делать людям добро. Правда, у него Гербалайф стоил не десять долларов, как обычно, а сорок, но зато без подделок, прямо из Израиля, настоящий кошерный продукт. И мама, хоть ей и было жалко денег, все же поехала и купила у него этот Гербалайф за сорок долларов. Заодно мама рассказала ему, что у нее очень плохо работает желудок, и панкреатит, и воспаление желчного пузыря, да и почки пошаливают, так что похудеть ей было просто необходимо, ради жизни. Они договорились, что через месяц она снова к нему наведается за очередной порцией Гербалайфа.
Мама начала принимать Гербалайф, но ей от него стало только хуже, начали болеть почки, печень, хоть на стенку лезь, желудок вообще перестал варить, начались жуткие запоры, в общем, мама решила от этого отказаться. Однако через месяц кандидат медицинских наук сам позвонил ей и поинтересовался, как дела. Мама в мягкой форме сообщила ему, что очень плохо себя чувствует и поэтому решила отказаться от приема Гербалайфа, но он был абсолютно убежден, что ей обязательно нужно, просто необходимо продолжать прием, так резко сразу все было бросать нельзя, раз уж она начала, то нужно довести это до конца, или хотя бы постепенно снижать дозу. Мама опять объяснила ему, что ей от этого препарата очень плохо, и стала перечислять все симптомы, тогда он уже с некоторым раздражением сказал ей, что при резком прекращении приема лекарства у мамы может отказать печень, да и почки тоже, ведь она, кажется, жаловалась, что у нее камни в желчном пузыре, так вот, может резко произойти закупорка, и вся желчь разольется у нее по всему организму, такие случаи уже были, а у него, как у врача, огромный опыт, стаж работы уже двадцать лет, так что она может ему поверить, она рискует жизнью. Марусина мама опять в мягкой форме сказала ему, что все-таки она пока повременит, подождет, может быть, ей станет лучше, а там посмотрим. Но уже на следующий день врач опять позвонил и опять стал убеждать ее продолжить прием лекарства, мама опять отказалась. Но он звонил ей снова и снова. А однажды даже очень серьезным трагическим голосом сообщил, что, если она все же не будет продолжать принимать Гербалайф, то просто-напросто умрет, это он ей, как врач, гарантировал, жить ей осталось не больше двух недель, так что пусть она еще раз хорошенько подумает, прежде чем принимать окончательное решение. Тогда мама в ярости бросила трубку, обозвав врача подонком и предупредив его, что, если он еще раз ей позвонит, то она просто обратится в милицию. И только после этого звонки прекратились.
***
Один раз Маруся видела сына Николая, это был худенький мальчик, который с обожанием смотрел на отца, тем не менее, сам Николай утверждал, что не уверен, его это сын или какого-то Мурзика, потому что Мурзику всегда нравились такие уродливые бабы, как его бывшая жена. Он рассказывал Марусе, что просто не мог видеть эту бабу с ребенком, которая стояла перед ним на коленях, не мог всего этого вынести, поэтому ушел, согласился уйти и оставить им комнату, где он был прописан, а сам просто ушел и стал снимать жилье на свои собственные деньги. А ведь он мог получить гораздо больше, но просто был не в силах победить себя, такая у него душа добрая. И все всю жизнь пользовались этой его добротой, питались его душевным теплом, а он растрачивал себя, совершенно не жалея.
Потом у Николая начались ужасные материальные трудности, и ему пришлось продать комнату, в которой, кроме него самого, были прописаны его жена и сын, правда, все деньги он отдал своему близкому другу, модельеру Кибальчичу, чтобы тот мог устроить показ своих моделей где-то в городе Риге. И тот устроил показ: по узким рижским улочкам между прекрасными старинными зданиями дефилировали очаровательные девушки и юноши в изысканных туалетах темно-синего, золотого и оранжевого цветов, играла грустная музыка, а сам Кибальчич стоял, картинно опершись о скамью, и за всем этим наблюдал. Шоу имело успех, и Николай тоже принимал в нем участие — он был одет в бархатный костюм с кружевами, высокие бархатные сапоги, зашнурованные до колен, и в смешную бархатную же шапочку.
Правда, Кибальчич так и не отдал ему денег: их у него просто не было. Зато он платил за комнату в коммунальной квартире, в которой Николай жил, и иногда давал ему деньги — когда тот оказывался совсем на мели. А такое частенько случалось, к нему все время приходили юноши, каждый раз новые, потому что он родился под знаком Скорпиона, а все «Скорпионы» зациклены на сексе, они даже мыслят тазобедренным суставом — так говорил про себя сам Николай. Николай говорил, что даже походка у него очень сексуальная, и один раз его за эту походку задержали милиционеры — Николай предполагал, что он просто им понравился. Сперва, когда Кибальчич не отдал Николаю деньги за комнату, он ужасно злился на него, просто хотел его убить, но потом у него прошла вся злоба, и он снова все ему простил. И Кибальчич все равно по-прежнему Николаю нравился — он напоминал ему льва своей горделивой осанкой и повадками, такими вальяжными, совсем как у льва! Николай был уверен, что, как только у Кибальчича появятся деньги, тот ему сразу отдаст его долг, нужно только немного подождать, совсем немного.
А жена Николая за то, что он без ее ведома продал ее комнату, засадила его в тюрьму, где он провел шесть месяцев — сперва он был в одной камере, и там его называли «Англичанин», он сидел на верхних нарах, и ему даже поднимали наверх еду, а он обучал всех своих сокамерников английскому языку. Ну а потом его перевели в другую камеру, где сидели, в основном, лица кавказской национальности, и там уж ему пришлось быть в услужении и спать у параши, но он не особенно распространялся об этом периоде своей жизни. Там, в тюрьме они добывали огонь, чтобы курить, потому что ни спичек, ни зажигалок им не давали. Чтобы добыть огонь, они делали так: скатывали из фольги две тонкие макаронинки, вставляли их в розетку, и соединяли их между собой обрывком ватки, через некоторое время раздавался щелчок, из розетки показывалось пламя, а свет в камере гас — получалось короткое замыкание, но они успевали прикурить, и потом передавали друг другу этот огонь. Николай потом показывал этот способ Марусе у себя в комнате, а после того, как он сделал короткое замыкание, у него вылетели пробки, и он схватил стул, с обезьяньей ловкостью вскочил на него, потом на спинку стула, попросив Марусю при этом придержать стул, чтобы тот не опрокинулся, и снова вставил пробку где-то наверху, под самым потолком.
Улыбка была на лице у Николая почти всегда, правда, порой он впадал в депрессию. В один из таких дней он купил себе пластмассовые луну и звезды, повесил на стенку, и лежал и любовался на эти мигающие разноцветные светила.
Московский приятель Николая, Саня, тоже часто впадал в депрессию, но это состояние перемежалось у него с периодами нечеловеческой активности и подъема, когда он энергично бегал по Москве и даже мог приехать в Петербург. Год назад Маруся как-то зашла в кафе на Невском, где обычно собиралась наркоманская тусовка, и вдруг на нее сзади с шумом и криком кто-то набросился и стал ее обнимать и целовать. Она обернулась — это был Саня, в расстегнутой клетчатой рубашке, в резиновых тапках на босую ногу, называемых в народе «сланцами» — по имени городка в Ленинградской области, где их раньше производили. Саня сообщил ей, что приехал из Москвы на верхней багажной полке и проиграл все деньги случайным попутчикам, а теперь у него нет денег даже на обратный билет, и он не может уехать обратно, так что придется ему жить у Николая или у его соседа Андрея. Николай, когда приезжал в Москву, тоже всегда останавливался у Сани, который раньше жил в Петербурге и пел в одной очень известной питерской группе, пока со всеми там не переругался.
Последний всплеск активности у Сани в Москве случился этой весной, тогда он выбросил из окна своей квартиры со второго этажа свои солнечные очки, купленные им накануне за двести долларов, и хотел, было, и сам выпрыгнуть вслед за этими очками, но его подруга Таня в последний момент его удержала. Когда Маруся была в Москве и тоже пару дней жила у Сани, Таня рассказывала ей об этом с нескрываемой гордостью, глядя на Саню с обожанием и восторгом. Саня обращался к Тане на «ты», а Таня к нему — исключительно на «вы» и даже иногда в его отсутствие говорила о нем в третьем лице, например, по телефону: «Сани нет. Они скоро будут», — а спала она на полу, на какой-то жалкой подстилке рядом с его кроватью.
Ее рассказом про очки Саня был доволен, но тут же заметил, что это все мелочи, с ним и не такое случалось, например, когда он служил в армии, он вцепился зубами в руку старшине и вырвал у него из руки здоровенный кусок мяса, после чего его вскоре комиссовали.
В Москве Саня пригласил Марусю на свое выступление в ночной клуб, где собралась целая толпа каких-то пугающего вида приблатненных личностей, которые шумели, толкались и громко переговаривались между собой. Когда Саня вышел на сцену, Маруся в первый момент его даже не узнала — в жизни он был достаточно тщедушного сложения и маленького роста, отчего все время ходил на высоких каблуках — на сцене же он весь преобразился, на нем были золотые сапожки и великолепный бархатный плащ, усыпанный сотнями фальшивых брильянтов, которые сверкали и переливались в свете прожекторов. Как только Саня вышел на сцену и заиграла музыка, в зале сразу же воцарилась полная тишина, сначала Саня спел несколько песен из репертуара Клавдии Шульженко, потом — Марлен Дитрих, а в конце — песню про безработного афганца, который никому не нужен и уходит «в кокаиновую ночь, черную, как дуло автомата», — при этих словах, совпавших с заключительным аккордом, Саня театральным жестом скинул с себя усыпанный брильянтами плащ и упал на него, встав на колени. После этого какой-то жуткий, похожий на орангутанга, тип с невероятно длинными руками впал в настоящий транс, он стал дергаться всем телом и скандировать: «Саня! Саня!«,- казалось, что он вот-вот плюхнется в обморок.
***
Слова в голове Маруси не всегда складывались в связные предложения, они просто порхали сами по себе и создавали разные образы, часто граничившие с бредом, однако это уже было интересно и занимательно, и эти образы настолько увлекали ее, что у нее терялось ощущение реальности, ощущение почвы под ногами, можно было вообще забыть о реальности и унестись в заоблачные выси. Слово «пектораль» застряло у нее в мозгу уже давно, она все хотела посмотреть в словаре, как же это слово пишется, оно снилось ей всю ночь, и даже сам этот пектораль виделся как какое-то прекрасное создание, творение природы или человеческих рук — неважно, все равно это было очень красиво. Кажется, в Древнем Египте фараоны носили на шее и груди пектораль, это было специально предназначенное для них украшение.
Про пектораль Марусе рассказал Павлик, когда он приехал из Берлина и зашел в собор, старушка у входа под большим секретом рассказала ему о чрезвычайном происшествии. Дело в том, что у них была на экскурсии группа иностранных туристов, и они ушли, весьма довольные, но через час прибежала взволнованная туристка, вся красная, в слезах, а с ней вместе — сопровождающий группу переводчик, и объяснил, что у нее украли документы и кошелек, а там были все ее деньги, тем более, что без документов она даже обратно домой улететь не могла, в Амстердам или там в Цюрих, старушка точно уже не помнила.
А в соборе в это время сновали какие-то цыганские дети, они достаточно часто там появлялись, и их гоняли смотрительницы, но окончательно выгнать их было просто невозможно, они появлялись вновь и вновь, и все время шмыгали, как мыши, около иностранных групп. Скорее всего, цыгане и обчистили эту туристку, так решили все. Тут же поймали одного маленького черненького мальчика с грязными ручками, мальчик стал рыдать, бить себя в грудь кулачком и кричал, что он такого никогда не делал, но мальчика все равно привели в кабинет директора и не отпускали. А вечером того же дня в собор явился высокий мужик в сиреневом спортивном костюме фирмы «Адидас», у него были черные кудрявые волосы до плеч, блестевшие от какого-то геля для волос, он распространял вокруг себя аромат дорогого одеколона или даже духов, и на шее у него был золотой пектораль — так сказала одна сотрудница, которая в этом хорошо разбиралась, так как изучала историю искусства, кроме того, когда он открыл рот, то все увидели, что все зубы у него золотые, нет ни одного белого, за руку он держал маленького мальчика, очень хорошо одетого, причесанного на пробор. Все сотрудники музея прибежали поглазеть на настоящего цыганского барона, они столпились у выхода из алтаря и ловили каждое его движение, а он как будто и не замечал ничего вокруг. Он подошел к столу, за которым сидел распорядитель, отправлявший экскурсоводов на экскурсии, и с большим достоинством заявил, что он — цыганский барон, а вот это его сын, он в курсе того, что здесь произошло, это настоящий позор для всех цыган, пусть директор отпустит того ребенка, он ни в чем не виноват, настоящего похитителя найдут сегодня же к вечеру, а он пока оставит здесь в залог своего сына. Цыганский барон изящным жестом легонько стукнул себя в грудь кулаком, прямо по золотому пекторалю, и за руку провел своего сына в кабинет директора, там они оставались какое-то время, вышел он оттуда уже один и медленной походкой удалился к выходу. А вечером того же дня он появился снова, и в руке у него была небольшая сумочка, а в этой сумочке оказались все деньги той иностранки и ее документы, и директор тогда отпустил и первого цыганенка, и сына этого цыганского барона, и конфликт был улажен ко всеобщему удовольствию. Мало того, барон обещал, что отныне собор будет находиться под непосредственным покровительством цыган, и что больше здесь не будет никаких проблем подобного рода, что это, вообще-то, сделал какой-то пришлый человек, не настоящий цыган, а настоящие цыгане никогда бы себе такого не позволили, потому что для них честь превыше всего, и собор они очень любят и всегда уважали здешних сотрудников. Но директор после того случая нанял охранников, которые уже в собор цыган не пускали, а если туда и проникали цыганские дети, то их тут же отлавливали и выводили.
Павлик после этого рассказа ужасно захотел сделать себе пектораль, хотя бы не из чистого золота, а просто металлический, но для этого нужно было знать, хотя бы приблизительно, как он выглядит, и он просил Марусю, чтобы она ему подсказала, как делать пектораль…
Когда Костя работал санитаром, к ним в больницу тоже привезли огромного двухметрового роста цыгана с золотыми зубами, которого в пьяной драке выбросили с девятого этажа гостиницы «Советская», цыган был уже мертв. Тогда тоже в больницу пришла целая делегация во главе с седым благообразного вида стариком, они просили вернуть им тело и ни в коем случае не делать вскрытие, так как эти цыгане были мусульманами и приехали в Ленинград откуда-то с Волги, кажется, из Куйбышева. Однако главный врач не стал с ними даже разговаривать, тогда цыгане устроили в больнице настоящий погром, выбили все стекла в приемном отделении, и тело им, кажется, все-таки отдали. Костя тогда работал в приемном отделении, он должен был, в том числе, выносить трупы, за сутки, как правило, их было примерно пять-семь. Постепенно ему начало казаться, что все умершие в больнице — это святые, и он выносит всех святых…
У Светика, хотя у него были голубые глаза и светлые волосы, тоже в лице было что-то цыганское, он действительно однажды показал Марусе фотографию, где его дедушка в кафтане, папахе и сапожках стоял в окружении людей в таких же странных нарядах, по словам Светика, он был родом из Румынии. Светик даже утверждал, что он находился в родстве с графом Дракулой, правда, Маруся уже знала одного потомка графа Дракулы, это был издатель грузного телосложения, мрачный тип, с которым ее познакомил на одной из презентаций Торопыгин. Его тоже очень заинтересовал Селин, а потом выяснилось, что ему больше всего нравится в его прапрапрадедушке — что тот прибил гвоздями шапки к головам турецких послов, когда те не сняли их в его присутствии.
Костя говорил, что его дедушка, который жил в глухой тамбовской деревне, тоже воспитывался среди цыган и даже целый год провел в таборе, где научился очень хорошо танцевать и играть на гармошке, что Костя и пытался однажды Марусе продемонстрировать, выплясывая перед ней в течение нескольких часов и даже дней, пока его не забрали санитары. Он начинал издалека, с обычных жестов, брал какой-нибудь предмет, книгу, но постепенно его движения ускорялись, пока не переходили в залихватскую русскую пляску, эти пляски, правда, перемежались у него с балетными номерами, по его мнению, во много раз превосходящими то, что продемонстрировал Нижинский на премьере «Послеполуденного отдыха фавна», и Маруся должна была быть счастлива, созерцая столь необычное, восхитительное и болезненно-утонченное зрелище, decadence, Art Nouveau…
***
Павлик теперь не пил и не курил, и даже наркотики не употреблял, он решил завязать после одного случая, о котором старался вспоминать как можно реже. Пару лет назад в Берлин на «ягуаре» прикатил русский негр, Нейл, его мама была узбечка, а папа — из Нигерии. Нейл был очень богатым, он привез с собой кучу бабок, драгоценные камни и золото в полиэтиленовом пакете, поэтому он и попросил Павлика помочь ему красиво потратить все эти деньги, а был как раз канун Нового года. И вот они с Нейлом и приятелем Павлика Мишей отправились встречать Новый Год в отель «Интерконтиненталь». Миша раньше в Ленинграде был квартирным вором и одновременно работал врачом «скорой помощи». У входа швейцар предупредил их, что не нужно сюда соваться, так как здесь сегодня гуляют русские, и у них могут быть неприятности, но они все равно туда пошли.
Они сели за столик, а вокруг за столами, действительно, сидели русские и все, как один, жрали жареных куриц. Периодически кто-то из них залезал на сцену и объявлял: «По просьбе Жоры из Одессы сейчас специально для его лучшего друга Сени из Бердичева будет исполнена любимая песня Сени „Без меня тебе любимый мой“!». Павлику даже начало казаться, что он никуда не уезжал, а так и остался в Ленинграде времен «застоя», и сейчас сидит в ресторане «Нева», а вокруг него гуляют местные торгаши, разбогатевшие благодаря финансовым махинациям. Когда же в зал ввезли столик на колесиках, на котором стоял огромный торт из мороженого, все эти личности со своими женами так набросились на него, будто это в последний раз в жизни они ели торт, и завтра наступает уже не Новый Год, а Конец Света.
Вдруг Павлик заметил, что по залу идет девушка, очень похожая на Кристину Орбакайте, которая только что пела по телевизору в передаче «Старые песни о главном», он подошел к ней сзади и тихо позвал: «Кристина!». Она обернулась и спросила: «Что?». Тогда Павлик вкрадчиво сообщил ей: «Мы только что вас по телевизору видели, а вы, оказывается, здесь прогуливаетесь!». Она пожала плечами, улыбнулась и пошла себе дальше. А еще Павлик в тот вечер познакомился с дочкой Эдуарда Сагалаева, который тогда только что возглавил Первый канал российского телевидения, у его дочки, видимо, были деньги, поэтому она и веселилась здесь в дорогом ресторане вместе с Павликом, Нейлом и Мишей, который раньше, до Берлина, работал врачом «скорой помощи» и, незаметно для больных, клал себе в карман их вещи. Когда Павлик подошел к Кристине Орбакайте и заговорил с ней, дочка Сагалаева тоже подошла вместе с ним, и ей все время хотелось сказать, чья она дочка, у нее это буквально вертелось на кончике языка и было написано на лице. Павлик это чувствовал, но она так ничего и не сказала, промолчала, просто потому, что ей не представился удобный случай это сообщить.
Когда они уже уходили, у входа в ресторан Павлик заметил несколько стоявших навытяжку немецких полицейских, перед которыми стоял русский старик, похоже, еще из первой волны эмиграции, и крыл их матом на чем свет стоит, иногда он, правда, вставлял в свою речь немецкие слова, чтобы они могли хоть что-то понять, но они все равно никак не реагировали, а молча на него смотрели и не шевелились. Тем временем, на улице у отеля какую-то пьяную бабу втаскивали в полицейскую машину — ее тащили за ноги, а ее муж, вцепившись ей в волосы, тащил ее обратно, и тоже ругался матом. А вообще-то, особых неприятностей, о которых их предупреждал у входа швейцар, у них в тот вечер не было.
На следующий день Павлик повел Нейла в район Кройцберга, в бар на Ораниенштрассе, устроенный в помещении бывшего завода. В Берлине тогда были в большой моде такие бары: стены там бетонные, полы — тоже, всюду стояли огромные столы, обитые по краям железом, и гремела музыка в стиле «техно». Павлик купил себе там шесть таблеток «экстази» — ему даже сделали скидку, и взяли с него не шестьдесят марок, как полагалось, а всего лишь сорок. Павлик заглотил сразу три эти таблетки, а потом еще две, и ему стало так весело, так хорошо, что он вскочил на стол и стал раздеваться под музыку, ему всегда была свойственна тяга к эксгибиционизму, он любил показывать всем свое тренированное тело, и то, как он хорошо сложен.
Он плясал на столе, по очереди стаскивая с себя свитер, рубашку, майку, раскручивал их у себя над головой и бросал куда-то далеко в толпу. В какой-то момент ему даже начало казаться, что в баре грохочет не «техно», а русская народная музыка. Он подумал: «Вот ведь уже до чего дошел прогресс, в этих барах теперь слушают русскую народную музыку». От этой мысли ему стало еще лучше и веселее, и он продолжал раздеваться до тех пор, пока не остался в одних трусах. Но тут действие таблеток закончилось, и он почувствовал, что ему холодно. Павлик спустился со стола и пошел искать свою одежду, но нашел только джинсы и сапоги, ни рубашки, ни свитера, ни куртки нигде не было, исчезли также все его документы и кредитные карты, и последняя таблетка «экстази», которую он засунул в карман джинсов, куда-то пропала. Русско-узбекский негр Нейл тоже куда-то делся. Теперь он не знал даже, как ему добраться до дому.
Как он в больницу попал, Павлик не помнил, помнил только, что проснулся, и бабушка принесла ему меню, более того, там было все запечатанное, все теплое, мало ли ты вегетарианец, или того не ешь, сего не ешь, и даже водка там была на выбор — Абсолют там или Горбачев. А он сперва даже отчество свое вспомнить не мог. Ему сосед по палате, тоже русский, говорит:
— Чего ты прикалываешься, брось дурить!
А он ему:
— Серьезно, в натуре, ничего не помню, даже как мое отчество.
Сосед говорит:
— Борисович.
Павлик ему:
— Нет, не то.
Он тогда:
— Ну, Александрович.
Павлик подумал — а вдруг и вправду Александрович, все ведь может быть, ну он и сказал, чтобы его так называли. И стали его звать Александровичем. И язык он немецкий забыл — раньше хоть как-то говорил, а теперь — вообще ни бум-бум. Ему говорят:
— Шпрехен зи дойч?
А он им:
— Нихт, нихт, — и смеется, смеется, сам не знает, чего ему так весело, ну прикалывает просто.
Так он в этой больнице довольно долго пролежал, а после его выписали, хотя он все равно много чего вспомнить так и не смог, да и не очень ему приятно было вспоминать.
Потом Павлика еще долго мучила совесть, ему было стыдно за себя, потому что из-за таких, как он, швейцар у входа в ресторан и предупреждал посетителей, что от русских лучше держаться подальше…
***
Однажды Лиля с Марусей задержались на работе допоздна, было уже десять часов вечера, а они все сидели и ждали Гену, который должен был подойти и забрать какие-то документы. И Лиля внезапно поведала Марусе ужасную историю, в которую втянул ее Александр.
Оказалось, что однажды они с Александром Петровичем остались в офисе вдвоем, пришла, правда, еще ее подруга, Ленка, и Александр Петрович предложил им отпраздновать первый солнечный день, а погода действительно была просто замечательная, давно уже такой не было, и они, конечно, согласились, он принес литровую бутылку Мартини, она выпила немного, она вообще пить не любила, и старалась этого не делать, потому что она очень быстро теряла голову, но он ее просто заставил, и она выпила целых две рюмки, а Ленка ушла в другую комнату и там села на диван и так и сидела, не желая даже с ними говорить, непонятно, что с ней случилось. Тем временем, Александр Петрович рассказал Лиле, что он работает еще и в Агенстве Моделей «Модус Вивенди», очень солидном и перспективном. Все девушки, которые там обучаются, потом снимаются в кино или принимают участие в различных шоу, и Лилю он пообещал в это Агентство устроить, но для этого, по его словам, необходимо было сделать пробные снимки. Тут он достал фотоаппарат, Лиля не возражала, и он сфотографировал ее стоя, потом она села на стол, и он опять ее сфотографировал. А потом он сказал, что нужно теперь еще сфотографироваться без одежды, чтобы там все же имели исчерпывающее представление о будущей модели. И Лиля, непонятно, что с ней случилось, но согласилась раздеться, сперва она сняла юбку и сфотографировалась в блузке и в колготках, а потом он снял с нее и блузку, и она сфотографировалась уже совсем «топлесс», с обнаженной грудью, но в колготках, а потом и колготки сняла, и даже села на стол, как он ей сказал, и он ее и так сфотографировал, правда, трусы она все равно не сняла, как он ее ни уговаривал. А он ей говорил, что время так быстро проходит, и что она потом станет старой и будет жалеть об этом, что нужно пользоваться каждым мгновением и наслаждаться им, а то потом будет поздно…
И вот теперь все пленки у него и фотографии тоже, и она не знает, что же ей делать. Ведь он же может показать все это Гене, а Гена считает, что она очень чистая, называет ее принцессой, а когда он увидит, что они с Александром Петровичем так себя вели, то просто ее убьет, потому что ему она отказывает уже давно, и получается, что Александр Петрович ей нравится больше, чем Гена. Гена ей этого никогда не простит, даже объяснений ее слушать не станет. Что же ей теперь делать, что делать? А вдруг и мужу ее все станет известно? Александр Петрович ведь и ему может эти снимки показать… Бедная Лиля чуть не плакала, вспоминая о своей глупости и доверчивости. «Как вы думаете, он гомосексуалист или нет? — неожиданно спросила она Марусю. До этого она была уверена, что он гомосексуалист, но последние события сильно поколебали ее уверенность в этом.
Тут раздался сильный стук в дверь, как будто в нее колотили ногами, Лиля торопливо подбежала к двери, повернула ключ, и на пороге перед ними предстал Гена. Гена молча прошел в свой кабинет и тут же оттуда донесся вопль: «Лиля!» Лиля угодливо вскочила с места и бросилась на зов.
— Что это за бардак! — услышала Маруся дикие крики. Гена явно был в плохом настроении. — Кто трогал документы на моем столе?
— Никто не трогал, — залепетала Лиля, — сюда даже и не заходил никто.
— Нет, мне все это осточертело! Сидят, понимаете, в прекрасном отремонтированном помещении, могут смотреть телевизор с утра до вечера, пользоваться компьютером, звонить по телефону, и за все это я еще им деньги должен платить! Да найдутся люди, которые мне еще сами приплатят за такую возможность, а тут я, понимаете ли, им платить должен! Нахлебники чертовы, халявщики! — продолжал вопить Гена.
Через некоторое время он стал говорить тише, а потом и вовсе перешел на шепот. Лиля тоже в ответ что-то шептала, потом из кабинета как всегда стал доноситься сдавленный визг и хихиканье. Маруся поняла, что пора уходить, к тому же на улице было уже темно.
***
И все-таки, Марья Савельевна так и не успела отозвать свое завещание, но тем не менее, выяснилось, что завещание не действительно, если у умершей есть ближайшие родственники-инвалиды, получающие пенсию от государства. Таким инвалидом и была дочка Марьи Савельевны, Виолетта, которая с детства страдала эпилепсией, поэтому марусина мама могла рассчитывать только на треть оставшейся жилплощади, это в лучшем случае. Почему-то адвокат, который помогал маме составлять завещание и консультировал ее по этому вопросу, ничего ей об этом тогда не сказал. Виолетта же теперь ничего и слышать не хотела ни о каком завещании, она уже даже подала объявление о продаже квартиры, с мамой она вообще больше не здоровалась, а вечерами стояла у подъезда в окружении таких же грязных, как она, бомжей, и о чем-то с ними заговорщически шушукалась, так что мама теперь боялась поздно возвращаться. В общем, она теперь совсем не знала, что ей делать, судиться ей все-таки с Виолеттой или махнуть на все рукой.
Наконец дочка ее школьной приятельницы, Лика, посоветовала маме обратиться к какому-то Геннадию Ивановичу Соловьеву. Лика работала менеджером в одной итальянской фирме, торгующей мебелью, и жила с Венедиктом, который в свою очередь курировал всю питерскую проституцию и даже содержал целый публичный дом неподалеку от бассейна «Локомотив» на улице Заслонова. Мама всегда восхищалась Ликой, ее предприимчивостью, говорила, что она «цветет и пахнет», в отличие от Маруси, которая влачила жалкое существование, потому что у Лики была огромная пятикомнатная квартира на Фонтанке с двумя ваннами и джакузи, а Маруся все время только и думала, как бы у мамы еще что выпросить. По мнению Лики, именно Геннадий Иванович Соловьев мог уладить все мамины проблемы. Лика вообще очень удивилась, что мама ничего не знает о Геннадии Ивановиче, так как, по ее словам, все кругом в Петербурге только о нем и говорили, у него даже было прозвище «Разбойник», но это только из-за его фамилии «Соловьев», а так это был очень интеллигентный человек, так что мама могла не опасаться и смело ему звонить. Правда звонить ему было не так просто, нужно было это делать по специальной схеме, которую она тут же набросала маме рядом с номером телефона, чтобы она не забыла. Сначала нужно было сделать семь звонков, потом положить трубку и сразу же перезвонить, но уже сделать только три звонка, потом держать трубку до пяти гудков и только на четвертый раз там ответят.
Мама все так и сделала — после того, как она, как ее учила Лика, сказала, что ей нужен Геннадий Иванович по личному делу, приятный женский голос в трубке сообщил, что сейчас ее с ним соединят. Геннадий Иванович сразу же понял суть проблемы, по его словам, это был типичный случай, с которым он уже неоднократно сталкивался в своей практике, он очень посочувствовал маме и полностью разделил ее негодование, но ничего страшного: если она решит окончательно разобраться с этим вопросом, то нет проблем, он сделает так, что уже через неделю объект, то есть Виолетта, отсвечивать больше не будет, а маме это даже и стоить будет совсем недорого, так как ей, как пенсионеру, он готов сделать скидку — он, видимо, так пошутил — в общем, как только мама примет окончательное решение, пусть она ему перезвонит, только на следующей неделе сначала надо будет сделать пять звонков, а потом уже семь и три, тогда они встретятся и обговорят все подробнее…
Но она так ему и не перезвонила, испугалась с ним встретиться, хотя по ее словам, судя по всему, это действительно был очень интеллигентный человек, так ей, во всяком случае, показалось.
А Виолетта месяцев через пять умерла сама. Это обнаружила соседка с нижнего этажа, когда у них на кухне сверху стала капать какая-то коричневая жидкость, а на потолке проступили темные пятна. Соседка побежала звонить наверх, но двери никто так и не открыл, пришлось вызывать слесаря из жилконторы, Виолетта лежала на кухне, судя по всему, уже не меньше двух недель, так как она уже начала разлагаться, и по ней даже ползали опарыши. После этого в ее квартиру набежала куча родственников, все они искали деньги, вырученные от продажи квартиры ее матери, они должны были быть спрятаны где-то там, не могла же она пропить девять тысяч долларов за четыре месяца, разве только она собрала всех окрестных бомжей, и они устроили грандиозную пирушку где-нибудь на соседней помойке, но денег, вроде, так и не нашли, хотя мама этого точно не знала, просто все так говорили…
Видимо, Виолетта что-то готовила на кухне и вдруг упала в припадке эпилепсии, а рядом с ней никого не оказалось, чтобы вызвать «скорую», раньше марусина мама периодически к ней заглядывала, звонила ей, проверяла, все ли в порядке, ведь Виолетта была инвалидом первой группы, но после той истории с квартирой они больше не общались. Так она и умерла, хорошо еще, газ был выключен, а то бы вообще весь дом мог взлететь на воздух, тогда бы уже не только денег, но и самой Виолетты не нашли, ее прах бы развеялся по ветру, а может быть, и не только ее…
***
На дворе стоял конец ноября, постоянно шел дождь, дул промозглый ветер, и в офисе было ужасно холодно, так как отопления там не было. Гена каждый день обещал принести электрический обогреватель, но не приносил, и Лиля с Марусей, дрожа от холода, целый день сидели в офисе в пальто и в шапках. Маруся работала за компьютером — она набирала свой новый перевод, поэтому не особенно обращала внимание на происходящее вокруг, но отсутствие отопления на нее тоже действовало угнетающе, она чувствовала, что простужается: у нее начинался насморк и кашель. Гена же заходил в офис лишь на пятнадцать минут и старался не задерживаться, потому что было очень холодно, у него даже шел пар изо рта, и он, чертыхаясь, быстро забирал все нужные ему бумаги и уходил, в очередной раз пообещав принести обогреватель.
Вася же и вовсе отсутствовал — он отправился в Москву по своим делам, поэтому жизнь в офисе на какое-то время почти замерла. Гена, правда, изредка звонил и проверял, на месте ли его сотрудники, и Лиля с Марусей должны были стоически сидеть в холодной комнате с утра до вечера, и даже чаю попить они не могли — не было ни заварки, ни сахару, купить было не на что, потому что Гена тянул с выплатой денег. Александр Петрович и Сергей появлялись редко. Александр Петрович, когда приходил, всегда приносил с собой лазерные диски с новыми компьютерными играми, иногда, правда, он ставил диск со своими любимыми песнями группы «Наутилус Помпилиус», долго сидел и самозабвенно слушал, закатив свои бледно-голубые глаза и задумчиво потряхивая длинной тощей ногой.
Сергей же, как только появлялся, сразу включал электрический чайник и пил чай, если, конечно, у них были заварка и сахар. Он выпивал подряд несколько чашек и съедал все печенье, или крекеры, которые были в запасе, однажды он съел все овсяные хлопья, купленные Лилей для своей собаки, которую она очень любила. Верунчик же часто приносила хороший растворимый кофе, какие-нибудь конфетки, шоколадку, а как-то перед выходными днями она принесла баночку кофе, коробочку конфет с орешками и пачку импортного печенья, все попили кофе, а оставшиеся продукты сложили в буфет. Через несколько дней, когда Верунчик пришел снова и полез в буфет, она не обнаружила там ничего, кроме пустой банки из-под кофе. Изумлению ее не было предела.
— Где же кофе? — спросила она — Ведь была же целая банка. А печенье, а конфеты?
— Наверное, это съел Александр Петрович, — задумчиво сообщила Лиля, — он тут пару раз оставался работать допоздна.
— Александр Петрович? — с возмущением переспросила Вера. — Как же так можно? Взять сразу все и съесть?
Она явно не решалась спросить об этом прямо у Александра Петровича, который сидел тут же за столом и насмешливо слушал весь этот разговор, но ничего не говорил, а только качал ногой.
— Ну и ну, — продолжала возмущаться Вера, — это уж ни в какие рамки… Больше я ничего приносить не буду!
И действительно, она больше ничего не приносила, а уж если приносила, то сама тут же все и съедала, правда, угощая при этом и Лилю, которая выпивала небольшую чашечку и съедала самый крошечный кусочек — после того ужасного случая, когда она неожиданно прибавила в весе два килограмма, она очень боялась растолстеть и постоянно следила за своей фигурой.
Вася вернулся из Москвы, у него как раз приближался день рождения, и Александр Петрович, который первым сообщил об этом событии, предложил устроить праздник и поздравить Васю. Маруся, Лиля, Сергей и Александр Петрович скинулись и купили Васе цветы и маленькую стеклянную собачку в подарок. Эту собачку Маруся и Сергей купили вместе в киоске, причем они долго выбирали подарок, ходили от киоска к киоску, и Маруся заметила, что Сергей долго задерживается у одной витрины. Она обратила внимание, что он зачарованно смотрит на маленькую стеклянную собачку с загнутым наподобие бублика хвостиком. Марусе показалось, что ему очень нравится эта собачка, но он стесняется ей об этом сказать. Она вспомнила, что в детстве он жил в детском доме и, наверное, даже в руках никогда не держал таких игрушек. А теперь даже не решается предложить купить ее в подарок Васе — потому что ему кажется, что это некрасиво, да и собачка какая-то мещанская… Маруся решила помочь ему и предложила:
— Давай купим Васе эту собачку? Мне кажется, она ему понравится, такая красивая, кроме того, это будет еще один символ его Агентства…
Сергей посмотрел на нее с некоторым удивлением и, как ей показалось, с тайной благодарностью.
— Ну ладно, давай купим собачку, если уж ты так хочешь, — сказал он, и они купили собачку.
Когда они отошли от киоска, Маруся держала в руках собачку в коробочке, и Сергей, внимательно глядя на нее, произнес:
— Знаешь, Маруся, мне кажется, что у тебя совершенно нет вкуса. Ведь эта собачка — совершенно безвкусная безделушка. Но если уж она тебе так понравилась…
Потом они украсили офис — развесили на стенах бумажные гирлянды и даже написали на листе бумаги большими буквами поздравление, после чего прикрепили этот лист к стене, прямо перед входом в офис. Вася пришел в хорошем настроении и радостный, он принес с собой бутылку коньяка «Мартель», всех расцеловал, сел за круглый стол, достал рюмку и стал, как обычно, наливать и пить, никого не угощая. Все сотрудники смущенно переминались с ноги на ногу, наконец Александр Петрович дрожащим, срывающимся от волнения голосом поздравил Васю с днем рождения.
— Спасибо, Сашенька, — ответил Вася. — Хочешь выпить?
Александр Петрович в ответ пробормотал что-то неопределенное.
— Ты знаешь, этот коньяк, вообще-то, вреден для печени, поэтому тебе лучше его не пить вообще. Ведь, я помню, у тебя были проблемы с печенкой? Так что не стоит рисковать! — сказал Вася и опрокинул еще одну рюмку коньяка, — Уж лучше выпей спиртику, это для печени гораздо полезней, чем коньяк. Насколько я знаю, все люди, страдающие печенью, предпочитают пить водку, а еще лучше — спирт.
— Сегодня нам должны привезти от фирмы «Posso-шок» пять ящиков водки — это они по бартеру рассчитываются с нами за рекламу, которую я сделал этой фирме в своей программе, так уж вы, пожалуйста, проследите, чтобы все было в порядке, выгрузите эти ящики и пересчитайте бутылки. Я потом сам за всем этим прослежу, но вообще-то, я доверяю вам и считаю, что нет никакой необходимости вас постоянно контролировать?
Александр Петрович радостно закивал.
— Я начинаю искать себе нового шофера, — продолжал Вася, — а то моя прежняя совсем обнаглела, постоянно требует каких-то денег, хотя, мне кажется, она и сама могла бы приплачивать за то, что имеет возможность со мной общаться. Многие бы этого хотели, но не всем дается такой шанс в жизни!
***
Алексей Б. придавал большое значение числам, дням недели, гороскопам и всяческим суевериям, его настольной книгой была книга Гурджиева, любимого астролога Гитлера, Гитлер вообще был подвинут на астрологии, Алексей все свои знакомства сверял с этой книгой, и никогда не предпринимал никаких действий, не проконсультировавшись тщательнейшим образом по Гурджиеву. Марусю он тоже призывал быть осторожней и осмотрительней, ведь с возрастом мы становимся более слабыми, а значит, и более суеверными, так что нужно стараться обращать внимание на различные знаки, которые посылают нам с небес и вообще с разных сторон, нужно только уметь их замечать, эти знаки, иначе вообще вляпаешься в ужасное дерьмо.
Алексей всегда носил с собой фотографии, на которых был не он сам, а его живописные портреты, сделанные его знакомыми. Одна художница, знакомая Алексея, здоровенная квадратная баба с покрытой красными пятнами рожей, которую Алексей называл не иначе как «Рембрандт», написала уже несколько портретов Алексея. На одном ее портрете он был с узкими, как у китайца, глазами, с торчащими во все стороны, как у Страшилы, соломенными волосами, и в красном шарфике — Алексей уверял, что этот портрет «льстивый».
Рембрандт жила в мастерской около Владимирского собора со своим сыном, хорошеньким румяным мальчиком, с которым Алексей любил играть, возил его на себе по комнатам, боролся, прятался от него в стенном шкафу, убегал по длинному коридору… В мастерской был жуткий холод, и художница обогревалась газом, однажды, когда Маруся с Алексеем собрались от нее уходить, сын художницы вдруг залез на стремянку, стоявшую у входной двери, и не давал им выйти, со стремянки он пытался перелезть на голову Алексею, а тот, вместо того, чтобы строго призвать мальчика к порядку, хихикал, поеживался и щурился, и, казалось, был готов вечно стоять в этой обшарпанной холодной прихожей у дверей, в конце концов, Марусе это надоело, и она решила уйти одна, оставив Алексея развлекаться здесь, сколько он хочет.
Как-то Рембрандт под большим секретом успела шепнуть Марусе, когда они остались одни в кухне, что надеялась, что они с Алексеем поженятся, был такой период в их жизни. Потом Алексей предложил, чтобы художница написала и марусин портрет. Маруся сперва опасалась, что та изобразит ее какой-нибудь уродиной, но она нарисовала портрет вполне льстивый, Маруся даже сначала сама себя не узнала, она сделала ее моложе лет на десять, как минимум, кроме того, на портрете Маруся радостно смеялась, и на голове у нее было что-то вроде капитанской фуражки, а вдали виднелись корабли на Неве, такие портреты раньше публиковали на обложках журналов «Юность» или «Аврора».
Пока Маруся позировала, художница жаловалась ей на тяжелую жизнь, ее мама в деревне очень плохо себя чувствовала, но все равно присылала им яблочки и даже повидло, а за эту мастерскую ей приходилось очень дорого платить, но уже хорошо, что эта мастерская вообще у нее была, потому что они сдавали свою квартиру и жили на эти деньги. Недавно она познакомилась с одним мужчиной, такой видный мужчина, чернявый, они выпили, и он остался у нее ночевать, а утром за завтраком он вдруг назвал ее «блядью», прямо в присутствии ребенка, и это уж ни в какие рамки, так не принято, о чем она ему сразу и сообщила, и вообще предложила выметаться на фиг, таких мудаков она у себя терпеть не собиралась, так все у нее и расстроилось, и вообще, не клеилось у нее с мужиками, потому что их интересует только одно — выпить и поебаться, и все. А с мужем она рассталась из-за того, что муж постоянно хотел ее контролировать, она не могла ни у подруги ночевать остаться, ни в гостях подольше задержаться, на фиг нужна такая жизнь вообще, вот они и развелись, потом она, правда, об этом иногда жалела, но в общем, самое главное, она обрела свободу, была теперь свободна, как птица, могла располагать собой по своему усмотрению.
Вот, правда, она познакомилась с Алексеем, и одно время они с ним даже хотели пожениться, но как-то не сложилось, а жаль, ведь он так любил ее сына, прекрасно к нему относился, но не вышло, к большому сожалению.
У Алексея была еще одна знакомая художница, карлица, она тоже нарисовала его портрет, там он был уже какой-то весь перекошенный, как будто в ярости, вне себя, создавалось впечатление, будто у него глаза вылезли из орбит, и изо рта брызжет слюна, потом Алексей этот свой портрет подарил на день рождения Марусе…
Зимой умерла маман Алексея, которая уже очень долго болела, и Маруся вместе с ним поехала на кладбище, он непременно хотел похоронить ее рядом с отцом, но по кладбищенским правилам нельзя было подхоранивать рядом, пока не прошло двадцать лет, а в случае с матерью Алексея прошло всего лишь девятнадцать лет, но все равно, правила оставались такими же. Кладбищенский рабочий, румяный парень в ватнике, подъехал на «Жигулях», они сели к нему в машину: Алексей — впереди, Маруся — сзади. Маруся поехала вместе с Алексеем, так как он очень просил ее помочь в случае различных неувязок, все-таки у нее было журналистское удостоверение, а Алексей говорил, что все кладбищенские служители — вымогатели, а он был так расстроен смертью матери, у него постоянно слезились глаза, и текли слезы, на его бледном лице застыло растерянное выражение.
В тот день было жутко холодно, на кладбище за городом дул пронизывающий ледяной ветер, и Маруся после этой поездки сильно простудилась. Когда они, по колено увязая в глубоком снегу, подошли к могиле отца Алексея, куда он хотел подхоронить и свою мать, рабочий сразу ему сказал, что этого сделать нельзя. Алексей недоверчиво смотрел на него, долго ходил вокруг могилы, осматривая окрестности, неподалеку росло дерево, и Алексей, схватившись за ветку и раскачивая дерево из стороны в сторону, продолжал приставать к рабочему: «А вот это дерево нельзя спилить? Ведь тогда место освободится?» Рабочий отвечал, что места еще на одну могилу все же не хватит. «А если убрать вот эту безымянную могилу? — продолжал настаивать Алексей, — Посмотрите, ведь она совершенно заброшена, сюда, наверное, уже давно никто не ходит, никто и не заметит, если вы ее уберете». Но рабочий ответил, что часто бывает так, что не ходят-не ходят, а потом вдруг возьмут да и объявятся, и у них будут неприятности. Алексей еще долго ходил вокруг могилы, он даже с силой топал вокруг ногами, желая что-то проверить, но больше никакого повода не нашел, и они уехали.
На обратном пути в автобусе Алексей задумчиво смотрел слезящимися красными глазами в окно, и вид у него был совершенно несчастный и отрешенный. Он, прерывисто дыша, говорил Марусе, что сейчас же собирается уезжать в деревню к дальним родственникам матери, что ему нужно побыть одному, а там, в деревне такая жизнь, какую даже и представить себе она не в состоянии, что там живут очень, очень плохо.
***
Маруся долго ехала на троллейбусе, почти до самого кольца на Петроградской стороне, зашла в обшарпанную парадную, поднялась на второй этаж и позвонила. Никто не открыл, но за дверью раздался глухой удар, от которого, казалось, содрогнулся весь дом. Маруся в изумлении приложила ухо к дверям и прислушалась — доносилось какое-то неясное шуршание, потом раздался еще один ужасный удар и кто-то воскликнул: «Еб твою мать!» Маруся позвонила еще раз, и тут дверь открылась, и перед ней предстал Светик — его стоявшие дыбом светлые волосы и ярко-малиновое лицо были покрыты белой пылью, вокруг на полу валялись куски штукатурки, а позади, за спиной Светика в стене зиял провал.
— Привет, Маруся! Раздевайся! Ты извини меня за временный беспорядок, но я тут ломаю стену. Я решил сделать проход в свою комнату из коридора, чтобы не ходить постоянно через большую комнату, где живут моя мама и ее муж, меня эта ситуация просто достала, поэтому я решил пойти на крайние меры.
При этих словах Светик схватил валявшуюся тут же здоровенную кувалду и со всего размаха ударил ею по оставшемуся куску стены. Весь дом опять содрогнулся, на пол обвалился огромный кусок стены, а сам Светик на какое-то мгновение исчез в облаке белой пыли. Маруся зачихала и закашляла.
— Маруся? Я тебя не задел? Ничего? Давай, проходи на кухню! — Светик широко улыбнулся и полез по узкому коридору через наваленные там узлы, коробки и банки — Ты извини, тут не очень удобно, но я просто чувствую, что, если я этого не сделаю, то просто сойду с ума. А пока ты посиди на кухне и послушай мои любимые песни, посмотри мои расцарапки и почитай мои стихи!
Светик плюхнул перед Марусей кучу запыленных тетрадей и альбомов, на которых были наклеены пожелтевшие вырезки из газет и красовались затейливые узорчатые буквы.
Светик сел тут же, рядом с Марусей, раскрыл один альбом и показал ей фотографию, где он, голый и розовый, с блаженным видом отдыхает в ванне, а рядом стоит мужик с пририсованными рогами и хвостом и указывает на Светика пальцем. Светик тем временем снял трубку со стоявшего тут же телефона, набрал номер и произнес:
— Але? Здравствуйте, Иван Петрович! Это я. Я? Что делаю? Да тут стенку ломаю! А ко мне тут Маруся заехала. Мы с ней вместе сидим и беседуем на различные темы.
Потом Светик так же обзвонил еще десяток знакомых и всем сообщил, что к нему заехала Маруся, и они вместе сидят и беседуют. Потом Светик снова повернулся к Марусе.
— Знаешь, Маруся, раз уж ты ко мне приехала, я отдохну, а стенку потом доломаю. Давай я приготовлю тебе обед. Я сделаю тебе ежики, я делаю такие классные ежички, ты просто не поверишь. Вот тут у меня фарш, тут — рис, а тут — лук. Я сейчас слеплю эти ежички, и мы с тобой поедим. Но только вот что, — лицо Светика приобрело задумчивое и слегка озабоченное выражение, — Я очень не люблю, чтобы смотрели, как я готовлю. Очень некрасиво — все руки облеплены фаршем, лицо у меня становится красное, в общем, иди-ка ты лучше в комнату и посмотри там все эти альбомы. А я тебя позову.
Маруся тем же путем по заваленному коридору пробралась в довольно просторную комнату, где стоял телевизор, полированный буфет и большой стол у окна, за который Маруся и уселась со всеми альбомами и стала их внимательно рассматривать, читая надписи, сделанные Светиком под каждой фотографией. У Светика вообще лицо было, как белый лист бумаги, что на нем нарисуешь, то и будет, он мог изображать и Марлен Дитрих, и Фюрера, и Сталина, и Римского Папу, и каждый раз получалось так хорошо, что не отличишь, недаром его все называли «Светик-семицветик», хотя образов было у него не семь, а гораздо больше. На одной из фотографий Светик был в русском узорном кафтане, красных сапогах и красивой расшитой бисером шапочке, с длинными льняными кудрями, настоящий Иван-Царевич, на другой он был уже в напудренном парике, камзоле, с кружевными манжетами и в синем плаще, на третьей — во фраке и цилиндре, еще на одной фотографии — в сильно декольтированном шелковом платье и светлом женском парике, и наконец, в образе Гитлера, правда, на этой фотографии Светик был еще совсем юный… Его еще в школе интересовала личность фюрера, и он уже тогда пришел к выводу, что они чем-то похожи. Он сделал себе стрижку, подстригся под Гитлера, зачесал длинную челку набок и немного назад, правда, усы у него еще не росли, но зато он подкрасил себе глаза так, что они стали еще круглее, чем обычно, хотя у Светика и так были достаточно круглые глаза, а теперь они стали просто как будто вытаращенные, светлые, с четко выделяющимся зрачком. Светик долго входил в образ, он все время представлял себя молодым Адольфом, которого ждут великие дела, в результате он перестал спать и чуть не свихнулся. Потом он сам сшил себе военный френч, переделал выходной костюм маминого мужа, на грудь он прикрепил небольшой круглый значок, а на рукав надел повязку со свастикой, и в таком виде сфотографировался, не в ателье, конечно, а попросил своего приятеля, чтобы тот его сфотографировал. Эту фотографию сейчас и держала в руках Маруся, под ней была подпись «В начале славных дел»…
Все это ей рассказал улыбающийся раскрасневшийся Светик, который через некоторое время появился в дверях с тарелкой в руках, на которой лежало несколько слепленных из риса шариков, густо посыпанных каким-то красным порошком и политых кетчупом.
А прославился он, когда его показали по телевизору в рекламе. Светик в пионерском галстуке и белой рубашке, с гладко зачесанными назад волосами и устремленным вдаль взглядом круглых голубых глаз, стоял перед мальчиками и девочками помладше, в таких же нарядах, как и у него, и тоже с пионерскими галстуками, и показывал им большую двухлитровую бутылку «Пепси-колы», точнее, разливал «Пепси» в маленькие пластиковые стаканчики, каждый из пионеров по очереди подходил к нему и выпивал стаканчик, потом вскидывал руку в пионерском салюте и уступал место другому: Светик был кем-то вроде пионервожатого, наставлявшего более юное поколение на путь истинный. Последний, самый маленький мальчик вдруг отказался пить «Пепси» и оттолкнул руку Светика, тогда Светик, повернувшись к камере лицом, залпом опрокинул стакан сам, после чего его лицо расплылось в радостной улыбке, и он тоже вскинул руку в пионерском салюте. В заключение, дружный отряд пионеров во главе со Светиком уходил вдаль навстречу огромному плакату с нарисованными на нем солнцем и большой бутылкой «Пепси», а маленький мальчик, отказавшийся пить «Пепси», бежал за ними вдогонку, подтягивая штанишки, в это время на экране появлялась надпись: «Новое поколение выбирает „Пепси“!» Первоначально предполагалось, что Светик будет исполнять роль пионервожатой, девушки со светлыми косичками и круглыми голубыми глазками, но в последний момент, когда ролик был уже почти отснят, начальство на телевидении этот вариант отклонило, так как это было еще в конце восьмидесятых.
Маруся взяла вилку и стала есть, Светик сидел рядом и тоже ел. Через некоторое время она почувствовала, как все предметы вокруг становятся как бы стеклянными, как будто она смотрит через огромную призму, они немного расплываются по краям, а в голове послышался небольшой приятный шум.
— Хочешь еще? — услышала она голос Светика.
Маруся молча кивнула, и Светик отвалил ей на тарелку еще порцию таких же ежичков.
— Ну как? Вкусно? — Маруся услышала голос Светика
как будто издалека, из другого пространства.
— Ну вот, — удовлетворенно сказал Светик, — а теперь давай дальше смотреть альбомы. Слушай, а ты не можешь достать калипсол? Это очень простое вещество, и очень недорогое, если на него есть рецепт. Оно практически не вызывает привыкания, его используют при операциях на животных и при абортах. А без рецепта за него ломят бешеные бабки.
— Ты же завязал, — пробормотала Маруся, которой теперь хотелось только лечь и закрыть глаза.
Она слышала, что Светик торчал на герыче, а теперь решил завязать, потому что испугался, что помрет от этого, а вот теперь он показывает ей шприц, старинный шприц, уложенный в специальный старинный кожаный футлярчик, такой походный вариант, и еще просит у нее рецепт на калипсол, это уж ни в какие рамки.
— Да, — застенчиво потупился Светик, — но иногда все же хочется погаллюцинировать, это же не криминал, скажи, Маруся? Ведь это не криминал?
— Да, — согласилась Маруся, — это не страшно. А что ты подмешал в эти свои ежички?
— Ничего, — Светик смотрел на нее таким открытым ясным взором, что ей даже стало неудобно, что она пристает к нему с такими вопросами, — Честное слово, Маруся, ничего. Там был: рис, мясной фарш, лук, чеснок, перец, соль, — с удовольствием и аппетитом стал перечислять Светик, — кетчуп, перец, ах да, перец я уже говорил, ну вот, и все, больше ничего. А тебе понравилось? — лицо Светика озарилось блаженной улыбкой. — Ох, как мы будем спать сегодня!
Марусе казалось, будто у нее все лицо перекосилось, рот находится под левым глазом, а нос — под правым, она отвернулась от Светика, чтобы он этого не заметил, потому что ей хотелось все же показаться Светику красивой, однако она заметила, что Светик на нее не смотрит, он запрокинул голову на спинку дивана и уставился в потолок, открыв рот.
— Светик, — прошептала Маруся, — давай я помогу тебе ломать стенку.
Она сказала это просто так, из вежливости, она даже сама толком не могла понять, зачем она это говорить, потому что никакого желания не только ломать стенку, но даже вставать с дивана у нее не было. Но Светик внезапно повернул к ней голову и энергично произнес:
— Давай!
Глаза у Светика были цвета морской волны, ласково прогреваемой солнцем на песчаной отмели, светлые, светлые, зеленовато-желтые глаза, зрачки были сведены в одну крошечную точку …
Светик вскочил с дивана. Маруся тоже встала, при этом она почувствовала, что вполне способна сломать стенку и даже помочь Светику вынести все обломки штукатурки, в огромном количестве загромождавшие коридор. Светик снова схватил кувалду и долбанул с размаху по стенке, отвалился еще один кусок, но не очень большой, а Светик уронил кувалду и плавно опустился на пол.
— Ладно, давай лучше посидим и подумаем, как я буду жить в этой своей комнатке.
Маруся заметила, что там под потолком есть небольшие антресоли и сказала Светику, что как раз туда он бы и мог поместиться, мог устроить себе там небольшую спаленку, оклеить там потолок и стенки синей бумагой, украшенной серебряными звездами, а еще лучше обтянуть такой материей, если она, конечно, у него найдется, он бы поставил себе лесенку и каждый вечер влезал в свою эту спаленку, а каждое утро оттуда спускался, и никто бы там его не побеспокоил, никто, ни его мама, ни ее муж, которого Светик ужасно ненавидел, просто терпеть не мог, он даже говорить про него не мог спокойно, а просто повторял, что это «чистый отстой». А еще Светик мог провести себе туда наверх телефон и там, лежа, разговаривать со своими друзьями, и еще мог купить себе маленький телевизор и смотреть там телевизор, и никто бы его там не доставал, там бы ему было настолько кайфово жить, что он бы никуда не уезжал, а всю жизнь бы так и провел наверху, в этой своей маленькой комнатке.
В детстве Светик хотел, чтобы у него была сестра Маша, и он просил родителей купить ему сестру. Мама сказала ему завести копилочку и складывать туда денежки, а когда денег будет много, на них ему купят сестру. Мама также сказала, чтобы он собирал исключительно рубли и полтинники, тогда, может быть, денег хватит на покупку сестры. Вот Светик и ходил везде с этой копилочкой и говорил:
— Давайте, быстро сюда кладите рубли и полтинники, на эти деньги папа с мамой купят мне сестру Машу.
А однажды мама взяла его с собой на работу: она раньше, пока ее не выдвинули на пост первого секретаря в Петроградском райкоме партии, работала заместителем директора большой ткацкой фабрики, и к ним как раз тогда приехал с визитом министр легкой промышленности со свитой. Ну, а Светик, естественно, ничего не понимал, а зашел прямо к ним в кабинет со своей копилочкой, встал посередине и говорит:
— А ну-ка быстро, кладите сюда все рубли и полтинники, на эти деньги папа с мамой купят мне сестру Машу.
А министр — его, кстати, Андропов потом снял и правильно сделал — как какое-то седовласое божество наклонился к Светику и говорит:
— Мальчик, извини, у меня денег совсем нет.
Тут все его подчиненные вокруг срочно полезли за кошельками и стали доставать оттуда десятки, двадцатипятирублевки, полтинники — и пихать Светику в копилочку. Светик все это очень хорошо запомнил, потому что мама потом его здорово побила. А на эти деньги ему купили снаряжение для школы — портфель, тетради, пенал, ручки и даже школьную форму. А вот сестру Машу так и не купили, и он даже и когда вырос, очень тосковал по отсутствию сестры, и в каждой знакомой бабе искал такую потенциальную сестру.
Марусе наконец надоело сидеть среди кусков штукатурки, как на стройке, кроме того, действие ежичков уже закончилось, и Светик предложил ей ложиться спать. Сам он уже вскоре храпел на всю квартиру, разметавшись на своем диване, Марусе же он предоставил в качестве спального места потертый матрас с байковым одеялом и подушкой, напоминавшей засаленный блин, Маруся улеглась, но все не могла заснуть, во-первых, Светик мешал ей своим храпом, во-вторых, в воздухе все еще стояла цементная пыль, и она, проворочавшись на этом неудобном матрасе до пяти утра, встала, оделась, и вышла из квартиры, даже не закрыв за собой дверь, а только прикрыв ее, потому что ей не хотелось будить сладко спавшего Светика.
***
Лучиано к Гитлеру относился скептически, его больше привлекала личность дуче, к которому он чувствовал большую симпатию, его также очень интересовало творчество Селина, который сейчас был очень популярен в Италии и, главным образом, как это ни странно, не среди правых, а среди левых, поэтому, приехав в Петербург, он и позвонил Марусе, в первую очередь как переводчице Селина, ну и как журналистке, конечно, так как он очень внимательно ознакомился с ее анкетой и теперь все про нее знал.
Как журналистка же Маруся его интересовала потому, что на ЕРС, Европейской Радиостанции, вещавшей на Восточную Европу — эту радиостанцию раньше финансировали американцы, а теперь она перешла в ведение Европейского Союза — так вот, на русской службе этой радиостанции, где он работал и которую в ближайшее время, возможно, даже возглавит, хотя сейчас об этом говорить было еще несколько преждевременно, ему был очень нужен низкий женский голос, высоких и даже визгливых у них там было более, чем достаточно, а вот с низкими была проблема, поэтому, когда он услышал марусин голос в телефонной трубке, он сразу понял, что это то, что ему надо, и решил обязательно с ней встретиться…
Все это Лучиано рассказал Марусе уже при встрече, в холле гостиницы «Невский Палас», где накануне, буквально три дня назад, боевики тамбовской группировки расстреляли известного предпринимателя Якова Шенкеля, больше известного в уголовной среде под кличкой «Ганс» — так, во всяком случае, писали в газетах — отчего стена слева от кресел, где они сидели, была завешена плетеной зеленой сеткой с нарисованными на ней цветочками — видимо, там еще остались следы от пуль. Маруся несколько удивилась, что Лучиано начал с Гитлера, но, очевидно, на такие аллюзии его навел Селин. Она, действительно, год назад заполнила какую-то анкету для радио, на которую случайно натолкнулась в Доме журналистов, так как вернувшись из Парижа и очутившись в совершенно новой для себя обстановке, без денег и без работы, она хваталась буквально за все, как утопающий хватается за любой проплывающий мимо него предмет.
К моменту, когда раздался этот звонок, она уже окончательно забыла про анкету, и поэтому не сразу поняла, кто и зачем ей звонит. К своему ужасу, уже в холле гостиницы, она вдруг вспомнила, что, по какому-то роковому стечению обстоятельств, до настоящего момента ни разу в своей жизни не слышала ни одной передачи этой радиостанции, поэтому сразу же поспешила заверить Лучиано, что это ее самая любимая радиостанция, чтобы потом, по возможности, уже не возвращаться к этой теме.
Лучиано говорил по-русски без малейшего акцента, поэтому Маруся предположила, что у него должны быть русские корни, однако, к ее удивлению, это оказалось не так. Лучиано родился на Сицилии в итало-испанской семье, мать у него была итальянка, а отец — испанец, поэтому его полное имя звучало необычно: Лучиано Ортега, — итальянское имя и испанская фамилия, а свое детство он провел в Аргентине на ранчо у своего дедушки, который был фермером. И кстати, там ему довелось несколько раз видеть Мюллера, во всяком случае, так говорили все взрослые, несколько раз показывая ему, тогда еще совсем маленькому мальчику, на пожилого человека с палкой в потертом кожаном пальто, который проходил мимо их дома. Но Лучиано тогда было всего лет десять, и он не мог до конца оценить всей важности момента и того, какого значительного человека он видит перед собой, самого шефа Гестапо — это он понял гораздо позже.
Но зато он очень хорошо запомнил другого немца, с которым ему довелось встретиться в деревне у дедушки и которого звали Гюнтер Нусбаум. Это был очень добрый человек, и он часто угощал Лучиано конфетами и шоколадками. Дядя Гюнтер был тоже не последним человеком в Гестапо, и между прочим, это именно он допрашивал Юлиуса Фучика, который, на самом деле, вовсе не погиб в застенках Гестапо, а сдал всех своих и благополучно под чужим именем перебрался в Латинскую Америку, и вполне возможно, тоже некоторое время жил в тех краях, где провел свое детство Лучиано. Так что «Репортаж с петлей на шее» — книга, которую, якобы, написал Фучик, на самом деле, является чистой фикцией, состряпанной сталинскими пропагандистами.
А Россией Лучиано заинтересовался еще раньше, сразу же после войны, когда еще жил на Сицилии. Там тогда, после того, как итальянцы на референдуме проголосовали против монархии, вскоре должны были состояться выборы, и поэтому повсюду постоянно проходили митинги, которые по очереди устраивали то коммунисты, то христианские демократы, причем и те, и другие очень много говорили о Советском Союзе, но как-то странно: одни, то есть коммунисты, всячески превозносили эту страну, а христианские демократы с яростью ее обличали,- вот это противоречие так подействовало на детское воображение Лучиано, что он решил сам во всем разобраться, стал читать книги о России, русских писателей, Толстого, Достоевского, Тургенева, ну и понемногу начал учить русский язык, хотя по-настоящему он его выучил много позже, когда служил вторым секретарем в испанском посольстве в Москве.
Тогда же он включился в активную деятельность по поддержке диссидентов — он специализировался на рукописях и самиздатовских книгах, которые переправлял на Запад. Но однажды его жена чуть не погибла, она ехала в автомобиле, и вдруг у нее отказали тормоза, и она с ходу врезалась в столб, хорошо, что скорость была не очень высокая, поэтому с ней ничего не случилось, а ее потом еще и оштрафовали, точнее — его, так как это была его машина, но он в тот день случайно задержался на работе, поэтому жена поехала одна, без него. Наверняка все это подстроил КГБ, и вообще, то, чем он тогда занимался, было очень опасно, его могли и ликвидировать, запросто, такое случалось и не раз, но он не мог спокойно смотреть на то, что творится в стране, которую он так любил, в стране Толстого, Достоевского и Тургенева — он делал то, что ему велел его гражданский долг. А у его жены после этого случился сердечный приступ, и его самого тоже вскоре выслали из России, и он думал, что уже никогда не сможет сюда вернуться, поэтому даже потихоньку стал учить немецкий и читать Гете и Шиллера…
Но тут произошла Перестройка, и все сразу переменилось, в том числе, и в его судьбе, потому что сразу же резко возрос спрос на людей, которые хорошо знали, понимали и любили Россию, то есть таких, как он. Надо сказать, что сейчас этот спрос резко пошел на убыль, но от этого, правда, по его мнению, количество людей, которые любят и понимают Россию, вовсе не уменьшилось, потому что, на самом деле, их всегда было мало — и раньше, и сейчас. Да и сама Россия, в сущности, тоже очень мало изменилась, она как была страной противоречий, так и осталась, то есть тот первоначальный образ России, который у него сложился в сознании, когда он еще толком ничего о ней не знал, по-своему оказался очень верным и не утратил своей актуальности и по сей день.
Раньше, например, здесь царило беззаконие, бесчинствовал КГБ, не было свободы слова и свободы совести, но зато было очень много честных хороших людей, с которыми ему часто приходилось беседовать, точно так же, как сейчас он беседует с Марусей. Теперь же все переменилось, люди обрели главное — свободу, но зато к власти пришли олигархи, которые теперь подчинили себе все средства массовой информации, что на Западе даже представить себе невозможно, так как там везде, в том числе и на их радиостанции, журналист просто выполняет свой профессиональный долг и никому не служит, кроме своей совести и слушателей, то есть налогоплательщиков, которые его содержат.
С другой стороны, те хорошие люди, с которыми он раньше здесь встречался, тоже очень сильно испортились, ударились в коммерцию, перестали интересоваться духовными вопросами, которые для России, русского менталитета, всегда были очень важны. И в то же время, многие сотрудники КГБ, с которыми он раньше никогда не встречался — только по долгу службы — теперь, наоборот, изменились в лучшую сторону, переосмыслили свое прошлое, стали иначе относиться к русской истории, и теперь ему с ними бывает очень даже интересно поговорить. Так что Россия была, есть и будет страной противоречий, потому что человек здесь все еще слишком широк, почти как во времена Достоевского и, может быть, теперь стал еще шире, потому что порой здесь сейчас можно натолкнуться на настоящий беспредел, причем запросто, в самой обычной бытовой ситуации. Вот такого, например — Лучиано указал Марусе рукой на висевшую на стене сетку с цветочками, прикрывавшую следы от пуль — он никогда не видел даже у себя на Сицилии, которая в сознании многих почему-то ассоциируется исключительно с мафией, тогда как это замечательная залитая солнцем земля, райский уголок, где течет спокойная размеренная жизнь…
Конечно, и в Италии был Муссолини, но ведь многие сейчас не совсем адекватно оценивают его роль в истории, слишком много противоречивых и запальчивых суждений, а историей лучше заниматься на холодную голову, отбросив эмоции. Мало кто знает, например, что в Италии, в отличие от той же Германии, практически не преследовали евреев, во всяком случае, по национальному признаку, а только исключительно по религиозному, а ведь так было и в дореволюционной России, так что это надо иметь в виду. В Италии совсем не было концлагерей, более того, многие евреи, спасаясь от преследований в Германии, нашли себе убежище именно в Италии. Таким образом, Муссолини сделал для евреев не меньше, а может быть, и гораздо больше, чем Шиндлер или тот же Валленберг, который, кстати, был двойным агентом и еще неизвестно, на кого работал — в то время как Муссолини всегда служил своей родине, в меру своего понимания, конечно. И потом, это был очень обаятельный мужчина, настоящий мачо, и это тоже исторический факт, и у него был вкус: он присвоил титул князя Д’Аннунцио и сделал министром культуры Маринетти,- такого в Советской России, при том же Сталине, быть просто не могло, ибо там всем заправляли кагановичи и им подобные.
Вообще, детские впечатления, по мнению Лучиано, оказывают очень сильное воздействие на всю дальнейшую жизнь человека, ибо именно в детстве — и в этом отношении он был отчасти солидарен с Фрейдом — формируется психологический архетип человека. Его лично, например, та давняя история с Фучиком, изнанка которой так неожиданно ему приоткрылась в детстве, заставила задуматься над подлинностью многих исторических мифов, жертвами которых становились очень многие известные личности, и Муссолини — это только один из примеров, причем не самых ярких, того, как исторические мифы порой смеются над людьми.
Совсем недавно, например, во время празднования двухсотпятидесятилетия Казановы — которое проходило в замке Дуксово, что находится в трех часах езды от Праги, где Казанова провел последние годы свой жизни — ему довелось выслушать один очень небольшой доклад казановеда из Египта о том, что знаменитый обольститель и покоритель женских сердец, на самом деле, был импотентом. Причем это было в высшей степени убедительное и аргументированное сообщение, так как основывалось не на голословных догадках и предположениях, а на очень веском документе, который египетский казановед обнаружил в архиве Казановы — чертеже надувного члена, который был сконструирован предельно просто, как все гениальное. Этот чертеж — теперь это доподлинно установлено — был сделан личным секретарем Казановы, и видимо, по его непосредственному заказу. Член представлял собой длинный шланг, сделанный из резины чуть потолще той, что используется теперь для изготовления презервативов: один его конец со специальным отверстием для надувания, привязывался подмышку, другой пропускался за спину и между ног, где при помощи специального клея намертво приклеивался к настоящему члену,- таким образом, этот член в случае необходимости можно было всегда при помощи воздуха привести в рабочее состояние. Стоит ли удивляться теперь, что Казанова за одну ночь мог удовлетворить такое рекордное число дам, которые к тому же пребывали в таком возбуждении, что ничего не замечали.
Вообще, это празднование двухсотпятидесятилетия Казановы представляло собой бесконечную трехдневную научную конференцию, состоящую из бесчисленных докладов казановедов со всего мира, что очень разочаровало Лучиано и двух его приятелей с русской службы, которые тащились туда из Праги по летней жаре несколько часов, включая то время, которое они провели в многочисленных пробках — так как они все-таки на празднике, посвященном такому человеку, ожидали увидеть нечто другое. А так туда и вовсе не стоило бы ездить, если бы не этот доклад про член, который произвел на Лучиано такое впечатление, что он теперь собирался сделать на эту тему у себя на радио специальную передачу в рамках целого цикла подобных передач под общим названием «Улыбки истории». А если бы не его любовь к России, с которой он связал свою судьбу, то он, возможно, даже открыл бы у себя на родине на Сицилии небольшой заводик по производству таких членов. Потому что, вопреки распространенному мнению, итальянские мужчины — то ли из-за беспорядочных половых связей в юности, то ли из-за неблагоприятных природных условий, постоянной жары и воздействия палящего солнца — очень рано сталкивались с проблемами такого рода. Неблагоприятное воздействие южного климата Лучиано с некоторых пор, к сожалению, стал испытывать и на себе, жертвой палящего южного солнца, видимо, был и Казанова.
Еще одну передачу из цикла «Улыбки истории» Лучиано собирался посвятить Моцарту, точнее, его взаимоотношениям с Сальери, так как образ последнего тоже совершенно, до неузнаваемости, искажен потомками, особенно в России, где к этому искажению свою руку приложил такой непререкаемый для русских людей авторитет как Пушкин. Ну в этом вопросе все предельно ясно, этот романтический миф о том, что Сальери, якобы, отравил Моцарта, вообще не имеет под собой никаких оснований. Во-первых, как показали результаты недавней медэкспертизы, проведенной после эксгумации тела Моцарта, он умер вовсе не от яда, а от сильных побоев палкой по голове, и, скорее всего, его избил разгневанный муж одной из любовниц Моцарта, которых у Моцарта было огромное количество, хотя бы потому, что он родился не в солнечной Италии, а в Австро-Венгрии, стране с более умеренным и прохладным климатом… Не говоря уж о том, что Сальери был очень интеллигентный человек, весьма хрупкого сложения, и лично он с трудом себе его представляет с дубиной в руках. Во-вторых, у Сальери не было абсолютно никаких причин завидовать Моцарту, так как Сальери был, как известно, состоятельный человек со стабильным положением в обществе, а Моцарт всю жизнь был нищим и безработным, так что это, скорее, Моцарт завидовал Сальери, а не наоборот. И вот как раз Моцарт вполне мог попытаться отравить Сальери, такой поворот событий Лучиано вполне мог себе вообразить, и с дубиной в руках он себе Моцарта тоже очень хорошо представлял, так как это был здоровенный малый с низким лбом и огромными ручищами, как у австралопитека, да и характер у него был не сахар. Таким образом, у Моцарта не было, в сущности, ничего, кроме его так называемого таланта, а талант это вещь весьма и весьма субъективная и относительная, сегодня ты в моде, а завтра люди изменились и finita la comediа или, как это по-русски говорят, тю-тю. Он, например, недавно прослушал несколько сочинений Сальери, и они ему очень понравились, в отличие от сочинений того же Моцарта, которые в основном состоят из заимствований и музыкальных штампов того времени.
А что касается человеческой зависти, то Лучиано вообще очень хорошо понимал природу этого чувства, так как ему неоднократно приходилось сталкиваться с ее проявлениями в своей жизни. Вот совсем недавно, например, в одной из московских газет бывший заместитель начальника их русской службы, место которого теперь занял Лучиано, некий Абрамович, опубликовал пространную статью, в которой вылил целый ушат грязи и на него лично, и на всю их радиостанцию, но самое главное, этот Абрамович, помимо всего прочего, недвусмысленно намекал в своей статье на то, что Лучиано является антисемитом. Это обвинение казалось Лучиано настолько абсурдным, что он даже не считал нужным его опровергать, так же ему было совершенно ясен мотив, который двигал автором статьи, это была зависть, самая обыкновенная, настоящая зависть, возникшая по тем же самым причинам, по которым Моцарт завидовал Сальери, ведь у Лучиано теперь была и работа, и солидное положение в обществе, а Абрамович просто оказался без работы.
И самое интересное, что именно вот так и создаются мифы, легенды, от которых потом бывает так трудно отмыться, и даже трезвый взгляд честного исследователя и очевидные факты оказываются перед ними бессильны. Не исключено, что и Лучиано может в результате одной этой статейки постичь участь Муссолини, Казановы и Сальери, ведь история может запросто посмеяться и над ним. И он совсем не шутит, так как и Маруся, по его мнению, вполне могла хотя бы на секунду представить, как лет этак через сто какой-нибудь «исследователь», просматривая газеты прошлого века, вдруг натолкнется на статью Абрамовича, а к тому времени уже полностью забудется: и что из себя представляла в реальности русская служба этой Европейской Радиостанции, и кем она финансировалась, и для каких целей она существовала,- и в истории останется одно только его имя как писателя, а такое он вполне мог себе представить, так как только что закончил роман, который скоро должен быть опубликован в одном из московских толстых журналов с предисловием самого Пересадова. Так вот, если в истории останется одно его имя и будет обнаружена статья Абрамовича, то вполне может так получиться, что в сознании потомков знаменитый писатель Лучиано Ортега вдруг превратится в отъявленного антисемита, и тогда вся его слава и известность, которые, наверняка достанутся ему с большим трудом — ведь в этой жизни ничего даром не дается — тогда все это может мигом улетучиться. Марусе, как переводчице Селина, должно быть очень хорошо известно, что происходит с писателем, уличенным в подобном настроении, даже если он уже умер…
И все-таки, заместитель начальника русской службы ЕРС и антисемит — это же полный нонсенс, полный абсурд! Но потомкам, увы, этого не объяснишь, зато Маруся очень хорошо должна себе это представлять, и он надеется, что она поймет это гораздо лучше, когда сама приедет к ним и увидит, кто работает под его началом, какие люди, Абрамович среди них был совсем не один такой, далеко не один, ведь у европейцев на этот счет нет никаких разнарядок, Маруся сама в этом убедится, когда приедет к ним на стажировку в Прагу, куда он ее со своей стороны обязательно пригласит…
***
Вася рассказывал Марусе, что однажды шел по улице и вдруг увидел на снегу совершенно новую белую рубашку, он хотел взять эту рубашку, а она вдруг исчезла, но он совершенно точно ее видел, она была новая, фирменная, и кажется, даже от «Версачче», ему показалось даже, что она шелковая. Такие вещи, по уверению Васи, происходили с ним довольно часто, и он считал, что это особый знак благоволения к нему высших божественных сил.
Маруся еще несколько раз слышала эту историю от разных людей, только у васиной жены Светки, например, получалось, что это была белая рубашка из личного васиного гардероба, в чем она была совершенно уверена, та как у нее были оторваны рукава, то есть, если быть точным, то это была такая белая безрукавочка, а когда Вася наклонился, чтобы эту безрукавочку поднять, то она вдруг исчезла совершенно загадочным образом… Конечно, уже сам факт того, что эта рубашка валялась на снегу, указывал на что-то невероятное, недоступное пониманию обычного человека…
Вася объявил, что теперь к нему на собеседование в офис будут приходить люди, которые претендуют на то, чтобы быть его личным шофером, и он будет их просматривать, пока не выберет себе того, кто понравится ему больше всех. А с теперешним своим шофером он собирался расстаться сегодня же. Маруся слышала про нее от Александра Петровича, что та до этого работала в бане и поставляла девушек своим клиентам, то есть была бандершей, в общем, опытной бабой, она и к самому Васе неоднократно пыталась приставать, да и Александра Петровича своим вниманием не обошла, но их это совершенно не интересовало.
В тот же день вечером в офис пришла баба лет сорока пяти, та самая, которая сидела за рулем васиной машины, когда он в первый раз заехал за Марусей. Баба была одета в брюки и кожаную куртку, изборожденное глубокими морщинами лицо и усталый взгляд как бы косвенно подтверждали то, что уже рассказывал про нее Александр Петрович.
— Здравствуйте, Мария Петровна, — сказал ей Вася, — Ну так что же вы, решили со мной расстаться? А мы ведь так с вами дружили!
— Да, Василий Борисович, — с некоторой обидой сказала женщина, — я ведь и вашу жену иногда по два часа у подъезда в машине ждала, и сына вашего из детского садика забирала, а утром в садик отвозила, и вас у поезда встречала, и даже чемоданы вам помогала до машины донести, а вы теперь мне и платить не хотите? Мне, кстати, помимо положенной зарплаты еще и сверхурочные с вас получить надо.
— Ну уж, Мария Петровна, — возразил ей Вася, игриво, но с некоторой долей раздражения, — Какие еще сверхурочные? Ведь мы с вами договаривались, что я вам буду платить сто долларов в месяц, вот и все! И эти деньги вы, кажется, с меня уже получили!
— Получила за прошлый месяц, — продолжала стоять на своем Мария Петровна, — А за этот месяц вы мне еще не заплатили, и, кажется, собираетесь меня еще оштрафовать!
— Но посудите сами, Мария Петровна, вы ведь помните, как однажды я велел вам подать машину к подъезду в восемь утра, а вы приехали в восемь пятнадцать?
— Да, — ответила Мария Петровна, — Но я же вам тогда объяснила, что попала в пробку, и вы даже мне сами посочувствовали и сказали, что это не страшно.
— Конечно, ничего страшного в этом и не было, — подтвердил Вася. — Но работа есть работа. Вы знаете, что при Сталине бы с вами за это опоздание сделали? Да вас бы просто расстреляли, и не за пятнадцать минут, а даже за пять!
Шоферша в изумлении замолчала, она явно не знала, что возразить.
— А помните, как вы опоздали на целых полчаса? — продолжал развивать свою мысль Вася, уже с некоторой долей агрессии. — А в другой раз, вы вообще забыли приехать, и моя жена прождала вас час, а потом вынуждена была поймать такси?
— Да, Василий Борисович, но у меня тоже были вполне уважительные причины, — с некоторой обидой, но уже как бы сдавая свои позиции, ответила Мария Петровна.
— Ну вот, видите, — моментально перешел в атаку Вася, — а вы мне говорите что-то про какие-то там доллары! Да я еще с вас должен вычесть определенную сумму! Сейчас даже скажу какую, — Вася деловито достал калькулятор и стал считать.
Мария Петровна в ужасе замолчала и, затаив дыхание, наблюдала за его манипуляциями. Через некоторое время она проговорила дрожащим голосом:
— Да у меня и денег-то с собой нет. Совсем.
— Да? — переспросил ее Вася. — Ну потом занесете!
Мария Петровна молча встала, надела свою кожаную куртку, которую она сняла, войдя в офис, и понуро вышла. Александр Петрович сразу же выскочил за ней, через пятнадцать минут он вернулся и шепотом торжествующе сообщил Марусе:
— Она считает, что это ей наказание за ее прошлые грехи. Она же раньше работала в бане массажисткой и одновременно занималась сводничеством — поставляла молоденьких девочек своим клиентам.
Маруся знала, что Александр Петрович был васиным человеком, он передавал ему все, что происходит в офисе, буквально каждое слово, которое здесь говорилось, становилось сразу же известно Васе. Александр Петрович был очень предан Васе, он и работал-то в Агентстве совершенно бесплатно, только ради того, чтобы у него в трудовой книжке было записано, что он работает в Агентстве «Муму» — ему казалось, что с такой записью в дальнейшем он совершенно спокойно найдет себе прекрасную высокооплачиваемую работу, которую он все время продолжал искать, и даже составил свой curriculum vitae — однажды Маруся мельком видела исписанный мелким бисерным почерком листок. Сверху было указано: «Александр Пилипенко. Автобиография», еще ей бросилась в глаза фраза: «Имею много знакомых иностранцев».
Вася недавно уволил с работы еще и Катю, которую Маруся тоже пару раз встречала в офисе. Катя ходила в глубоко декольтированных кофтах и в коротких юбках, сильно обтягивающих зад, при этом при ходьбе она старалась как бы еще больше выпятить грудь и зад, которые и без того достаточно сильно выпирали. Катя говорила про себя, что она очень горячая девушка. Она жила одна с дочкой, которая еще не ходила в школу и целыми днями сидела одна. Катя варила ей суп, чаще всего уху, и оставляла ей обед между окнами, холодильника у них не было. Катя обучила свою дочку лаять, когда кто-нибудь звонил в квартиру, дочка подходила к дверям и лаяла, получалось очень похоже, все соседи были уверены, что они завели себе собаку. Катя даже думала как-нибудь предложить ее услуги в программе «Му-му», например, когда шли конечные титры, то в качестве аккомпанемента можно было вполне использовать собачий лай.
Катя должна была оформить документы съемочной группы на Берлинский кинофестиваль, и все эти документы потеряла — и паспорта, и запросы, и письма, и даже деньги —точнее, она просто забыла их в бухгалтерии, когда получала свою зарплату, заговорилась со своей знакомой и положила всю папку к ней на стол и там оставила, а знакомая эта на следующий день ушла в отпуск, и на папку никто внимания не обратил. Катя так испугалась, что даже не знала, как об этом сказать Васе, ведь уже через два дня им надо было лететь в Берлин. Вася на нее даже не кричал, а просто спокойно сказал: «Понятно. Можете подавать заявление об уходе с завтрашнего дня». Катя рыдала, она уже на следующий день нашла эти документы, и Вася со своей группой улетел в Берлин, но ее все равно уволили. Вася называл Катю не иначе как «ебанашкой».
Вася страдал аллергией, часто по утрам глаза у него были совершенно красные и заплывшие, а он очень волновался по поводу своей внешности, он хотел привлекательно и даже сексуально выглядеть на экране. Ему писали письма со всех концов России и даже из других стран — влюбленные девушки и юноши присылали свои фотографии в купальниках и плавках, а иногда и в обнаженном виде; одна девушка в длинном письме описывала васин голос, что он очень сексуальный, с такой легкой хрипотцой и как бы все время задыхается и дрожит. Вася давал эти письма Лиле, она должна была их сортировать по темам: письма о любви, письма с деловыми предложениями, письма о дружбе, письма о кино. Эти письма были разложены на верхней полке буфета аккуратными стопочками. Потом Вася попросил Марусю заносить все адреса своих корреспондентов в компьютер — он намеревался как-то их использовать, правда, он еще точно не решил как, а может, просто не хотел раньше времени об этом говорить, но любая информация об этих людях могла ему пригодиться.
Вася раз в полгода объявлял в своей программе конкурс: показывал кадр из фильма, который еще не появился в отечественном прокате, а зрители должны были догадаться, как сложится дальнейшая судьба героев — женится герой на героине, или же все закончится ссорой, умрет ли любимая собачка героя, и как тот будет реагировать на ее предполагаемую кончину… В завершение следовал традиционный для этого конкурса вопрос: «Зачем Герасим утопил Му-му?» — на него конкурсанты должны были ответить как можно более остроумно. Победителю конкурса, то есть тому, кто первым ответит на вопрос, была обещана поездка на очередной кинофестиваль. Писем с ответами приходило несметное множество, и было совершенно невозможно определить, кто же первым прислал наиболее удачный ответ. По поводу Му-му ответы приходили самые разные, но Васе больше всего нравился ответ телезрителя из Читы: «Потому что она ему остопиздела». Естественно, Вася не мог сделать такого человека официальным лауреатом своего конкурса. «Вот так всегда и бывает, — с ухмылкой говорил он, — самые талантливые люди остаются за бортом».
***
Павлик, когда приехал из Западного Берлина, сразу же пошел в собор, где раньше работал, ему хотелось снова увидеть своих бывших сослуживцев, а кроме того, показать собор своей маме, которая там раньше никогда не была. У входа он увидел всю ту же старушку с неподвижным, как маска, лицом и в вязаном сером мохеровом берете, Регину Петровну, она держала в руке указку и как бы загоняла этой указкой посетителей в угол, приглашая их подождать экскурсию. «Пожалуйста, граждане, слева собирается экскурсия, сядьте, подождите…» Если же какой-нибудь непослушный посетитель не хотел ждать, а сразу устремлялся вглубь собора, она злобно бормотала ему вслед: «Ну иди, иди, бурундук уральский!». Павлика она сразу не узнала, а когда узнала, то очень обрадовалась, даже расцеловала его и тоже пригласила подождать экскурсию. Она рассказала ему все соборные новости, самые важные из которых вечером того же дня Павлик пересказал Марусе по телефону.
Нина Петровна, старушка-смотрительница, очень увлекавшаяся новейшими методами лечения и следившая за своим здоровьем одно время пила собственную мочу, она приносила эту мочу в баночке в собор, и когда все собирались в трапезной пообедать, доставала эту баночку и пила оттуда, поэтому вскоре все сотрудники взбунтовались и пожаловались директору, и тот вызвал ее на разговор, после чего она отказалась от этого метода самолечения, но теперь она голодала «по Бреггу»: так называлось «голодание ради здоровья». Ее можно было часто видеть на портике, она стояла в розовом вязаном берете совершенно невероятной формы и в красном пальто, а лицо у нее было просто зеленого цвета, и она еле держалась на ногах, поэтому ее поставили на колоннаду проверять билеты, чтобы она могла весь день спокойно сидеть на стуле и только отрывать корешки. Но однажды в собор вошли посетители, Регина Петровна заметила, что контроль у их билетов на колоннаду опять не оторван, и это было уже не в первый раз. Регина Петровна решила выяснить, в чем дело, и оказалось, что на колоннаде они уже были, но там старушка у входа спала, и они просто не хотели ее тревожить. После этого Нину Петровну из собора убрали. На ее место пришла другая, Эмма Павловна, бывшая школьная учительница физкультуры, Регина Петровна вообще считала ее бесноватой, потому что она никак не могла спокойно усидеть на месте, все бегала по собору и беспокоилась, но дирекцию это вполне устраивало, потому что она следила за порядком.
Самая же пожилая смотрительница, Эмма Соломоновна Левит, недавно упала и сломала себе шейку бедра, но послала в собор своего племянника, который сообщил, что она непременно вернется на работу, как только ей купят костыли, и чтобы никто, не дай Бог, ее место не занимал, и ее с работы чтобы не увольняли, потому что она без собора просто жить не может. В противном случае, племянник угрожал подать на дирекцию в суд, потому что ведь это же у них на портике она упала и сломала себе бедро, а значит, отчасти в этом виновата и дирекция. Эмма Соломоновна обычно скрывала свою национальность и ужасно злилась, когда кто-нибудь из сотрудников пытался узнать у нее детали еврейских религиозных обрядов и обычаев.
Теперь в соборе по большим религиозным праздникам устраивались службы, приходили мордатые краснорожие батюшки и служки, набирали певчих, а после службы здоровенный служка доставал из кармана толстую пачку сотенных бумажек и расплачивался с певчими наличными. Посетители после таких дней становились особенно агрессивными и требовали, чтобы их пускали в собор бесплатно, так как они все вдруг вспоминали, что это храм, а за вход в храм платить они не собирались. Павлик тоже был согласен, что за вход в церковь деньги требовать совершенно безнравственно, это противоречит всем нормам и канонам, и развращающе действует на простых людей.
Там в Германии люди вовсе не читают книг, у них жизнь совсем не такая, как здесь, там даже на дверях квартир надписи по-немецки: «Жизнь — это стройка». И для них, действительно, жизнь — это одна большая стройка, камень на камень, кирпич на кирпич, жизнь для них — это не театр, как здесь, не игра, а просто стройка. Они все строители. Павлик там посмотрел один немецкий фильм, его все так хвалили, но он тоже оказался как раз такой типичной иллюстрацией этой стройки, и с тех пор немецкий кинематограф для него умер, больше он их фильмы не смотрел. Павлик запомнил только конец, где переворачивали «трабант», такую машину из прессованной пластмассы, это должно было символизировать ГДР — искусственную страну. Павлик помнил, как очень давно, когда он еще жил в Ленинграде, одна его знакомая, взяв целую пригоршню пфеннингов, удивлялась: «И почему у них там в ГДР такие деньги легкие?» «У них жизнь легкая», — ответил ей Павлик, тогда он действительно так считал.
Тогда Павлик еще работал в магазине радиодеталей директором, а начинал он свою карьеру с должности продавца в магазине пластинок на Невском, где директором была Елена Константиновна, очень похожая на Нонну Мордюкову. У нее были большие глаза, всегда обведенные жирной черной чертой, и оранжевые волосы, стоявшие дыбом на голове. Свой рабочий день она начинала с того, что доставала сумку и красилась часа два, и только потом уже приступала непосредственно к работе. Перечить ей было нельзя, у нее периодически бывали нервные срывы — она выходила в торговый зал и начинала на всех кричать, так вставала посреди зала и орала во все горло, а все продавцы стояли навытяжку, никто даже уйти не решался.
У магазина пластинок был филиал — магазин канцелярских товаров, там и вовсе было очень сложно с кадрами, и Елена Константиновна была вынуждена лично вести воспитательную работу среди рабочей молодежи. Например, одна продавщица, Ира, по причине территориальной близости к магазину студенческого общежития, встречалась с неграми, и никак не хотела подчиняться строгим порядкам магазина. Ее поведение пагубно сказывалось на всем коллективе — естественно, одна паршивая овца все стадо портит. В конце концов, Елена Константиновна однажды просто завела ее в подвал и набила там ей морду, после этого Ира стала как шелковая. Елена Константиновна даже грузчиков из «Лентрансагентства» била по спине кулаками. Она одним своим видом буквально гипнотизировала всех, она была, как монумент, и внушала людям страх. Павлика, правда, она очень любила, всегда писала ему положительные характеристики, от нее он и научился правильно работать с нашими советскими продавцами. Однажды на Восьмое Марта ей подарили букет цветов, и она тогда сказала Павлику: «Посмотри, какие замечательные цветы. Какая сила в них заключена, необыкновенная красота и сила!» — эту фразу Павлик запомнил на всю жизнь.
Заместительница Елены Константиновны Альбина Вацлавовна во всем ее копировала: у них был одинаковый голос, они ходили в одну и ту же парикмахерскую, в одну и ту же баню, красили волосы в один цвет, и, в результате, различить их стало невозможно. Альбину Вацлавовну торг послал на курсы повышения квалификации, и они с Павликом одновременно оказались в одном техникуме советской торговли, в результате, после курсов уже Альбину Вацлавовну назначили директором, а Елена Константиновна оказалась ее заместительницей, поскольку у нее не было никакого образования. Но она все равно по-прежнему сидела за тем же столом, в том же кресле, только в табеле она числилась заместительницей, а Альбина Вацлавовна — директором, но на деле все обстояло наоборот, а иначе и быть просто не могло. Если бы Альбина Вацлавовна сказала ей: «Дорогая, знаешь, иди-ка, вставай за прилавок!» — то все, даже представить себе страшно, что бы тут началось, но этого не происходило.
Сейчас Елена Константиновна стала миллионером, она приватизировала магазин, то есть приватизировал его коллектив, в торге тогда очень дешево предлагали выкупить магазины, и они все вместе сложились и его выкупили, а от коллектива она потом постепенно избавилась, это оказалось не так уж сложно; она приватизировала даже участок земли, на котором стоит магазин, и набрала на работу новых продавцов. А Альбина Вацлавовна осталась с ней, они уже не могли друг без друга, как сиамские близнецы, были связаны на всю жизнь.
Когда Павлик приехал из Берлина и зашел к Елене Константиновне, она сидела на том же месте и была так же накрашена, и у нее был все тот же квадратный нижний подбородок; и она сказала ему, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни, когда уехал отсюда, если бы он этого не сделал, то сейчас был бы миллионером, как она. Павлик и сам это понимал, но его все же немного утешал тот факт, что он учился в медицинском училище, даже уже заканчивал его; скоро он получит диплом и будет работать целителем, то есть тоже сможет получать неплохие бабки.
Еще Павлик ездил в Петергоф и видел там душевую комнату императрицы, она ему очень понравилась, он даже захотел у себя в Берлине такую устроить. Одна комната с двумя окнами, выходящими в Китайский сад, в полу в центре проделана дырка — внизу круглая табуретка, есть какие-то трубочки, очевидно, для воды, чтобы она уходила в Финский залив, а над этой дыркой, точно сверху, люстра, украшенная стеклянным виноградом, и латунными листьями, покрашенными зеленой краской, и среди этого винограда и листьев такие дырочки, как лейка, — это и был ее душ. Следующая комнатка с ширмочкой, с фарфоровым горшочком, дальше сауна с деревянной лесенкой, какой-то подиум сделан, типа русской печки, и там переходишь в другой коридорчик и попадаешь в огромный шпалерный зал, в середине овальный стол на двенадцать персон. Павлику это так понравилось, что он решил у себя в Берлине так же сделать.
***
После кладбища Алексей Б., действительно, не звонил Марусе в течение месяца, а потом внезапно появился, и они сразу же отправились вместе в его любимое кафе «Сладкоежка», потому что Алексей очень любил сладкое. Он рассказывал, что в этой деревне, откуда он только что приехал, все живут в ужасной нищете, ходят в обносках, то есть даже не живут, а просто влачат нищенское существование. И Маруся тут же представила себе серое небо, серые полуразвалившиеся избы, и унылых крестьян в лохмотьях, серых платках и кривых рваных шляпчонках, бредущих, спотыкаясь, по серому тающему снегу, среди них был и Алексей, который в своем заплатанном коричневом пальто, держа под руку свою пожилую тетку, элегантно скользил по серой наледи, покачиваясь то вправо, то влево, стараясь сохранить равновесие…
В это мгновение к их столику подошла девушка в маленькой круглой шапочке с вуалькой, какие носили в двадцатые годы во время НЭПа, на плечи у нее было накинуто меховое манто, а волосы, шляпка и платье все утыканы множеством гусиных или куриных перьев. Это была подруга Алексея, Катенька из Москвы, с которой Алексей тоже договорился о встрече в этом кафе. «Послушайте, две недели назад, когда вы были в Москве, вы отказались платить за меня в кафе…» — начала говорить Катенька. Маруся поймала на себе растерянный взгляд Алексея, в это же мгновение он вскочил со стула и, вцепившись Катеньке в руку, заглядывая ей снизу в глаза, быстро-быстро запричитал: «Ах, Катенька, вы не должны так говорить при Марусе, она может вас неправильно понять…» «Ну отцепитесь же вы, старый кретин! Больно!» — вдруг резко прервала его Катенька и с силой выдернула свою руку из его цепких пальцев.
О Катеньке Алексей раньше уже довольно много рассказывал Марусе. У нее были богатые родители, которые состояли в секте мормонов, и те снимали для них целый особняк где-то в районе Фурштадтской улицы. В Москве она жила вместе с дедушкой, в элитном районе, который раньше, в советские времена, считался вообще недоступным для простых смертных, там был очень хороший воздух, и вообще благоприятная экологическая обстановка, а теперь высотный дом, где жил дедушка, стал совсем обшарпанным, в их подъезде постоянно собирались какие-то наркоманы, правда, дедушка на них внимания не обращал, ему было абсолютно плевать, он уже достиг нирваны. Когда питерские знакомые Катеньки приезжали в Москву на пару дней, они обычно останавливались у катенькиного дедушки. Если, конечно, самой Катеньки в эти дни в Москве не было, и она тусовалась в Питере, так как жили они в комнате, где обычно жила она. Один раз, чуть позднее, там жила и Маруся.
В этой комнате на буфете стоял серый человеческий череп, а шкаф был завален разными старыми платьями, вероятно, раньше принадлежавшими каким-то звездам театральной сцены. На покрытом пылью письменном столе валялись старые программки различных молодежных клубов, а на люстре болтались запыленные бумажные птички. Фамилия Катеньки была Асадуллина, но она ей не нравилась, ей хотелось изобрести себе какой-нибудь броский запоминающийся псевдоним, то она хотела отбросить первые буквы и называться просто «Дулина», то решила стать Катрин де Сад, на французский манер, но окончательное решение она так и не смогла принять.
У них с Алексеем были очень сложные отношения, одно время, когда мама Алексея была еще жива, Катенька, когда приезжала из Москвы, останавливалась у него, потому что ее родители не хотели, чтобы она жила у них, а уж приводить кого-нибудь в гости они тем более не разрешали, боялись, чтобы их, не дай бог, не ограбили. Мама не хотела пускать Катеньку к себе, потому что она постоянно кокетничала с ее новым мужем, она вообще кокетничала со всеми мужчинами, чем ужасно злила женщин.
Алексей говорил, что у Катеньки самые красивые ноги в мире. Еще он считал, что Катенька очень несчастная девушка, она даже пыталась покончить с собой, а его друг из Москвы вообще рассказывал ему, что она голодает, потому что однажды она пришла к нему вечером в гости, он предложил ей попить чаю, а она с жадностью съела не только все конфеты, но даже и весь хлеб. После этой истории, по словам Алексея, в его душе что-то сдвинулось, и он Катеньку почти что полюбил, хотя жалость, конечно, все же не до конца любовь. Правда, его раздражало то, что она постоянно «раскручивала его на деньги», а у него денег не было вовсе. Он ведь был пенсионер, кроме того у него ведь было двое детей, хотя они и жили теперь с его бывшей женой в совершенной бедности, но и у них тоже почти ничего не было. А Катенька раскручивает его на деньги и однажды в Москве даже повела его в такой бар, где бутылочка «Кока-Колы» стоила пятьдесят рублей, и заставила платить за себя.
А вот своей бывшей жены Алексею было не жаль, так как она сама была виновата, что он от них ушел, ведь раньше он хорошо зарабатывал, кроме того, у него была богатая бабушка, которая умерла и оставила ему в глиняной вазе наследство, солидную сумму в рублях, и он, когда ему нужны были деньги, приходил к ней, запускал руку в вазу, и доставал оттуда столько, сколько ему было нужно, тогда он не считал денег, и поэтому его все любили. А потом началась перестройка, кризис, и все деньги, которые он не успел истратить, превратились в бумагу, и он стал бедным, просто нищим. На работе ему перестали выплачивать зарплату, а его жена стала проявлять все большее недовольство, она постоянно устраивала ему истерики, и ему, в конце концов, это надоело, он оставил ее вместе с двумя своими маленькими сыновьями, и ушел жить к маме.
Тем временем, ему удалось выправить себе пенсию, мизерную, конечно, но все же хоть какие-то гарантированные деньги, он работал военным переводчиком, но даже эту пенсию ему не хотели давать, один полковник, ужасно его не любивший, все пытался уволить Алексея раньше времени, тогда бы он остался вовсе без денег, но, к счастью, другой полковник Алексею симпатизировал, и ему удалось все же дослужить до пенсионного возраста. Конечно, он переживал из-за этой ситуации со своей бывшей женой, все же его дети голодали, а его жена, к тому же, старалась настроить их против него, но он при встрече покупал им конфеты, и они его все равно любили. Теперь, когда его маман умерла, его жена стала проситься назад, но он ей отказал — ведь один раз она его уже предала, зачем же ему снова себя мучить…
После того, как Катенька его оттолкнула, Алексей некоторое время сидел молча, отстранившись от нее, полностью сосредоточившись на своем мороженом, но затем, так как он сидел между Марусей и Катенькой, снова начал хватать за руки то одну, то другую, при этом он, заглядывая Катеньке в глаза, поинтересовался у нее, не беременна ли она. Катенька загадочно улыбнулась и ответила, что не знает, не уверена. Правда, один юноша действительно предлагал ей жить вместе с ним, но для этого им нужен еще третий партнер. Оказалось, что Маруся тоже его знала — его звали Родион, он ходил в красном пиджаке, с иссиня-черными волосами, подрезанными на лбу челкой, одно время он был приятелем Николая, но потом ушел от него к Юле. Он предлагал Катеньке некоторые варианты, но Катенька все не соглашалась, ей никто не нравился, а она не хотела себя заставлять, с какой стати.
— Послушайте, Алеша, а не могли бы вы мне купить еще мороженого? — жеманно сказала Катенька, небрежно взмахнув рукой и откинувшись на спинку стула. Алексей же, вместо ответа, наклонился к ней всем своим туловищем и снова с силой вцепился ей в руку.
— Ах Катенька, Катенька, — скороговоркой забормотал он, — она такая бедная, бедная…
И тут он опять, обращаясь главным образом к Марусе, стал рассказывать историю про своего московского приятеля, накормившего голодную, бедную Катеньку, и то, как ему тогда стало ее жалко, он ее почти за это полюбил… Катенька же вдруг вся побледнела, лицо ее исказилось злобной гримасой, а на глазах навернулись настоящие слезы. Она с силой вырвала свою руку из рук Алексея и громко на все кафе произнесла:
— Кто, я бедная?! Послушайте вы, старый идиот, у моих родителей, между прочим, два мерседеса и две квартиры, в Москве и Петербурге. Просто они мне не всегда дают деньги. А вы, старый придурок, говорите из зависти ко мне, а лучше бы вы завидовали Марусе, потому что она теперь самая модная писательница.
— Ах Катенька, я же не это хотел сказать, — попытался прервать ее Алексей и снова схватил ее за руку. Но Катенька с силой оттолкнула Алексея так, что тот едва удержался на своем стуле и не упал на пол.
— Лучше бы вы рассказали Марусе о том, как вас однажды изнасиловали в бане, или же о том, как вы ходите на вокзал в поисках мальчиков, или о том, как вы привели к себе однажды мальчика, и этот мальчик набросился на вас с ножом, и вы выскочили на лестницу почти голый…
Алексей снова попытался ее прервать, но Катеньку было уже не остановить:
— А еще мне ваш приятель Владимир рассказывал, что вы, Алексей Петрович, очень любите, когда вас таскают за волосы и называют девкой и шлюхой. Ведь так, Алексей Петрович? А раз в неделю вы ходите на Кузнечный рынок и покупаете у грузин бананы или, еще лучше, неочищенную морковь, грязную, всю в земле, и просите, чтобы вам эти бананы и морковь запихивали в зад, это у вас называется «посношаться с грузином», так как к самим грузинам с подобными предложениями вы подойти боитесь… И французский вы плохо знаете, говорите с ошибками и с плохим произношением, мне это Муся сказала, а она, между прочим, учится на филфаке, на французском отделении… — неожиданно завершила свою речь Катенька и торжествующе посмотрела на Алексея. Она уже совсем успокоилась и, казалось, была полностью удовлетворена.
— Bon… Passons… — тихо, как бы себе под нос пробормотал Алексей, — Катенька, ты, я вижу, сегодня не в духе, что-то какую-то агрессию проявляешь по отношению ко мне. А я-то совсем не то хотел сказать… Ну уж, Маруся, думаю, никогда бы так не стала делать, — вдруг наклонился всем туловищем к Марусе Алексей и снова с силой схватил ее за руку.
— Ну ладно, — решительно произнес он, — пойдем, пожалуй, а то мы уже слишком здесь засиделись. Кафе скоро закрывается.
— Надеюсь, вы проводите меня до метро? — капризно произнесла Катенька, — Или уж и провожать не будете?
— Проводим, проводим, — с некоторой поспешностью сказал Алексей, — пойдемте.
После того, как Катенька скрылась за стеклянными дверями метро, Алексей вздохнул с явным облегчением и посмотрел на Марусю.
— Боже мой, боже мой, как не хочется расставаться — задумчиво сказал он. — Какое счастье, что мы вообще встретились с вами. Я считаю, что это чудо. Я уже и представить себе не могу, что мы до этого были не знакомы. Я не представляю, как я вообще жил до этого. Пойдемте, прогуляемся еще к Владимирской площади, а там вы посадите меня на метро…
Когда они проходили мимо Владимирского собора, Алексей внезапно остановился, задрал голову и задумчиво посмотрел вверх.
— Ах, какой сегодня день, какой день, — как бы про себя произнес он. — Давайте постоим здесь, у храма. Нет, давайте лучше посидим — он указал на стоявшие неподалеку деревянные ящики, на которых днем у собора обычно сидели нищие. — Давайте посидим и помолимся про себя. Как не хочется расставаться…
***
Прошло уже несколько месяцев, как Маруся работала у Васи, а всех обещанных денег пока так и не получила. На все ее вопросы Вася неизменно отвечал, что у них с Геночкой договоренность — Вася занимается рекламной деятельностью, а Гена платит сотрудникам. Гена же продолжал тянуть с выплатой. Все равно, Вася был не тот человек, чтобы ее надирать, он мог кинуть кого угодно, но только не ее, Маруся в этом не сомневалась. А вот намерения Гены не вызывали у нее ни малейших сомнений. Она стала думать, каким образом может все же получить свои деньги, простых просьб здесь явно было недостаточно, нужно было придумать что-нибудь более сильное и действенное, например, попытаться как-нибудь Гену шантажировать или припугнуть.
Маруся сидела за своим компьютером очень мрачная, и теперь Гена, когда проходил мимо нее, старался вообще в тот угол не смотреть, а быстро-быстро заскакивал в свой кабинет. Потом Гена уехал в командировку в Москву, а Вася улетел в Варшаву, и Маруся осталась вдвоем с Лилей, потому что Александр Петрович на работу перестал ходить вовсе. Маруся тоже подумала, что теперь сможет отдохнуть, но Гена каждое утро ровно в десять часов звонил из Москвы и проверял, на месте ли его сотрудники, так что расслабиться было совершенно невозможно.
Гена приехал неожиданно через две недели и прямо с порога заявил Марусе, что им придется расстаться, потому что Вася недавно подписал очень выгодный договор с одной фирмой, но директор этой фирмы поставил условие — чтобы они взяли на работу его племянницу, а так как свободных рабочих мест у них нет, то придется уволить Марусю. Маруся не особенно расстроилась, она и сама уже подумывала о том, чтобы уйти, но ей все же хотелось получить свои заработанные за несколько месяцев деньги. Про деньги Гена ничего не сказал, тогда Маруся спросила его, когда же будет произведен окончательный расчет. Гена задумчиво почесал затылок и сказал:
— Ну ладно, вы доработайте до конца этой недели, и в пятницу, нет, в субботу, я с вами рассчитаюсь. Саша! — обратился он тут же к Александру Петровичу, — Возьми-ка дискеты и скопируй из компьютера всю информацию, прямо сейчас, а дискеты эти отдай мне, — и он зашел в свой кабинет и захлопнул за собой дверь.
— Зачем это? — удивилась Маруся, — Ведь тут дискет двадцать надо, как минимум.
— Просто ему недавно рассказали историю о том, как одного человека уволили из компьютерной фирмы, а он, в отместку, перед уходом взял и стер все, что было в компьютере. Фирма понесла значительные убытки, — ответил Александр Петрович, уже сидя за компьютером и по очереди вставляя и вытаскивая дискеты.
Маруся очень пожалела, что ей это самой не пришло в голову, но, с другой стороны, она бы не успела ничего такого сделать, потому что Гена только сейчас сообщил ей о своем решении и тут же посадил Александра Петровича копировать информацию.
Маруся продолжала думать, как бы ей подстраховаться на тот случай, если Гена не заплатит ей обещанные деньги и в субботу. У нее, например, был ключ от офиса, и она могла его ему не отдавать, но все же это было не очень сильным аргументом, ведь Гена запросто мог предупредить охрану не пускать ее в офис, а сделать дубликат ключа стоило не так уж дорого, во всяком случае, гораздо дешевле, чем та сумма, которую ей должны были заплатить. Кроме того, она могла пригрозить Гене, что пойдет в налоговую инспекцию и скажет, что в Агентстве «Му-му» сотрудники работают безо всякого оформления, и что доходы скрываются и не декларируются, тогда на них наложат крупный штраф. Ее утешало то, что у нее есть доказательство — пропуск в Дом Кино, где было указано место работы — «Агентство «Му-му», должность — переводчик. Правда, Васе ей не хотелось доставлять неприятности, а вот Гена раздражал ее все больше и больше. Маруся мысленно прикидывала, чем же еще можно при случае припугнуть Гену, но так больше ни до чего и не додумалась.
Тем временем пришла пятница, и Гена сказал ей:
— Маруся, вам придется выйти на работу завтра, в последний раз, и как раз тогда, очень надеюсь, у меня будут деньги для выплаты вам.
— То есть как это — надеетесь? — не выдержала Маруся. — У вас их что, нет?
— Нет, — со вздохом развел руками Гена, — я вообще сейчас на мели. Видите, как я похудел? Даже брюки сваливаются. Мне же в прямом смысле этого слова сейчас буквально нечего есть!
Маруся уже не скрывала своего раздражения, ей даже хотелось сказать Гене какую-нибудь гадость, но она все же сдержалась, потому что оставалась еще надежда на завтрашний день, а так зачем портить себе нервы и ругаться с Геной, к тому же он тогда может специально ей не заплатить, просто назло, из вредности.
В субботу она пришла рано, в десять утра, и села за компьютер набирать текст своего перевода. Гены все не было, она уже успела посмотреть телевизор и попить чаю, а также обзвонить всех знакомых и поговорить, чтобы время скорее прошло, а Гена все не появлялся. Наконец около семи часов вечера раздался телефонный звонок, это был Гена:
— Маруся, вы все еще там? В общем, вы свободны — можете закрывать офис и идти домой, я боюсь, что не успею сегодня подъехать, у меня еще много дел.
-А деньги? — спросила Маруся.
-Какие деньги? — удивился Гена.
— Я хочу получить свою зарплату!- от сознания того, что она совершенно напрасно провела весь день в пустом офисе, ее охватила злоба. — Если вы сейчас же не привезете мне деньги, я оставлю себе ключ от офиса, и вам не отдам! А кроме того, я скажу своим знакомым чеченцам, то есть это знакомые моей подруги, и они приедут, и все тут у вас разгромят! А пока я сама заберу у вас в счет долга телефонный аппарат и факс! — от волнения Маруся даже стала заикаться, она хотела прибавить еще что-нибудь, но тут Гена неожиданно пошел на попятный:
— Ну ладно, у меня тут есть минут пятнадцать, я сейчас заеду.
Ровно через десять минут в дверь постучали, это был Гена, он молча достал бумажник, вынул оттуда две бумажки по сто долларов и положил на стол перед Марусей.
— Сегодня вы работали последний день. В понедельник вас здесь уже не ждут, — раздраженно отчеканил он.
— И слава богу! — ответила ему Маруся. Она бросила на стол ключ от офиса, взяла сумку и вышла, хлопнув дверью. Уже на улице она вспомнила, что Гена должен был ей еще пятьдесят долларов, потому что фактически она отработала на полмесяца больше, но Гена еще до этого два раза предупреждал ее, что она оштрафована, сперва на двадцать, а потом еще на двадцать долларов. А про оставшиеся десять долларов он, очевидно, просто забыл.
***
Однажды, когда Светик только что вернулся в Питер из Москвы и отправился на Невский, в кинотеатр «Аврора», где как раз тогда была премьера английского фильма «Евгений Онегин», загорелась Дума, а один знакомый Светика, Максим из Москвы, который тоже приехал тогда на премьеру фильма, заметил этот пожар, и сразу же понял, что Светик где-то неподалеку, он так и сказал об этом Марусе, которая тоже была на этой премьере.
Потому что стоило Светику где-нибудь появиться, поблизости сразу же непременно что-нибудь загоралось. А когда Светик сжег квартиру Поляковой, это вообще был полный улет, целый год все только об этом и говорили, и даже в газетах писали, и брали у Светика интервью, и фотографировали его на фоне этих обгоревших руин. Квартира у Поляны была в центре Москвы, в доме, где жили очень навороченные личности, самые крутые, а соседом по лестничной площадке у нее был Иосиф Кобзон, а что за люди к нему приходили — это же просто мрак, просто не описать словами! Светику же тогда просто повезло, он выскочил из пожара совершенно голым, и только кончики пальцев себе обжег. Он тогда вколол себе кетамин и прилег с сигареткой погаллюцинировать, и ему представилась такая великолепная барочная галлюцинация, такой великолепный гигантский замок, что он так — ах! — и откинулся, и отрубился, как был, с этой сигаретой, а сигарета упала на пол, там все было отделано синтетическим покрытием, и пол, и стены, и даже потолок, и все это вспыхнуло, а Светик, когда на нем загорелось одеяло, почувствовал ужасный жар, ему снилось, что он где-то под палящим солнцем юга загорает на пляже, и что солнце уже так невыносимо жжет, что терпеть больше нет никаких сил, и тут он внезапно проснулся и увидел, что вокруг бушует пламя, и он вскочил и сразу же бросился к выходу, он успел даже схватить кое-какие свои бумаги, некоторые особо ценные расцарапки — так он называл фотографии, которые расцарапывал иголкой, и эти обугленные расцарапки потом всем демонстрировал. Но большая часть его архива так и сгорела, и ему было ужасно жалко этот свой архив, потому что восстановить все это не представлялось возможным. Он тогда сразу, как был в голом виде, бросился к соседям, они вызвали пожарных, те довольно быстро приехали и все потушили, пожар, к счастью, не распространился на остальные квартиры.
Но тогда в пожаре погибла любимая собачка Поляковой, ее звали Эллочка, и потом Светик видел белый силуэт этой собачки на черном обугленном полу — в той же позе, как она лежала, когда умерла в этом ужасном пламени, лапки вытянуты, хвостик задран вверх, и каждый волосок ее так четко отпечатался, что просто какое-то нереальное, запредельное впечатление, просто страшно было. Ведь Полякова еще до этого просила его, как художника, придумать ей для этой квартиры оригинальный дизайн, вот он и отделал ей квартиру, оригинальней не придумаешь, но вот смерти собачки она ему долго простить не могла. Она потом ему звонила и все повторяла: «Ты убил мою собаку, теперь ты должен повеситься!» После этого Светик стал считать ее полной дурой, разве можно из-за смерти собаки желать смерти человека. Но эта квартира принадлежала ее матери, которую сам Поляков-старший, крупный бизнесмен, давно уже бросил, она была какая-то деревенская баба, и эта квартира была ее единственным состоянием, поэтому она никак не могла простить Светику этого поджога, она страшно его возненавидела и стала колдовать, пыталась напустить на него порчу. Однажды Светик утром проснулся, открыл окно, а в это окно вдруг влетел голубь, прямо ему в лицо, Светик едва успел отпрянуть, но своим крылом голубь его все же задел.
И после этого Светик заболел, он стал худеть, сохнуть прямо на глазах, он похудел на пятнадцать килограмм, и его уже не узнавали самые близкие друзья, он уже к смерти готовился, и не знал, как же ему снять с себя это жуткое заклятье. Но, наверное, эта баба, мамаша Поляны, не до конца освоила ремесло колдуньи, так как он все же не умер, постепенно он стал поправляться, к нему вернулся аппетит, и он даже слишком много прибавил в весе, потом ему снова пришлось худеть. Правда, на самом деле, с похуданием проблем не было, потому что Светик скоро подсел на героин, до этого он только кетаминился, а героин пару раз пробовал, но вскоре подсел плотно. В наркоманской тусовке людей, переходящих на героин, обычно отпевают, потому что они долго не живут — лет пять, шесть от силы, так что все считали, что Светик уже не жилец.
***
Покинув «Му-Му», Маруся устроилась работать в газету «Резонанс». Редакция «Резонанса» находилась во дворе на Невском, под аркой. Внизу в небольшом помещении, типа кладовки, сидел охранник, как правило, какой-нибудь хилый совершенно глухой старичок, наверх вела грязная узкая лестница с обитыми ступеньками, сама редакция занимала шесть этажей, целый подъезд в огромном старом доме, а отдел культуры находился на самом верхнем шестом этаже, там же помещался и кабинет главного редактора газеты. Говорили, что раньше, до революции здесь был то ли публичный дом, то ли что-то вроде меблированных комнат, и все сотрудники газеты с большим удовольствием пересказывали друг другу эту версию.
Марусин стол находился напротив стола Гоши, она сидела спиной к окну, у них был угловой кабинет, и ей в спину дуло, особенно зимой, когда были морозы. Она сообщила об этом Гоше, но тот посмотрел на нее с раздражением и сказал: «Ну и что? Что вы хотите сказать? Кто туда должен сесть, по-вашему? Я, что ли?». Гоша вообще часто раздражался. Однажды, когда Маруся, помыв руки, открыла дверь в кабинет, ручка двери осталась мокрой, потому что сушилки у них не было, и полотенца тоже, была только ободранная железная раковина и крохотный кусочек хозяйственного мыла, а Гоша вошел сразу же вслед за ней и строго спросил: «Почему ручка у двери мокрая, блядь? А? Кто это замочил?»
Гоша обожал балет, он всегда ходил очень грациозной летящей походкой, он шил себе специальные наряды на заказ у начинающего модельера Мани Крамаренко, и писал о ней статьи в газете, эти наряды были не совсем обычного покроя — казалось, они сшиты, как минимум, на два размера больше, чем нужно, брюки у Гоши вечно спускались гармошкой на ботинки, рукава широких кофт совершенно закрывали пальцы рук, но Гоша был в восторге от этих туалетов, и заказывал все новые и новые, других цветов.
Гоша очень любил Светку, васину жену, они с ней раньше учились в театральном институте, и Светка всегда называла Гошу «зайчиком», и говорила, что он чудный. Гоша же, когда говорил о Светке, закатывал глаза и все повторял: «О… Светка… это о…. Это все…» А вот Васю он называл не иначе как кучей говна и вообще говорил, что все — и его дипломную работу, и диссертацию, и даже тексты для всех его передач -—написала и продолжает писать за него Светка, потому что Светка — настоящий гений.
Гоша был небольшого роста, у него были крошечные серовато-желтые глазки, красный крючковатый нос, кривой ротик, который начинал кривиться еще больше, когда он готовился сказать что-нибудь о своих знакомых, которых у него было довольно много, поэтому его ротик оставался кривым практически постоянно. Раньше Гоша был актером, играл в детском театре оловянного солдатика и комарика в «Мухе-Цокотухе», потом один его приятель предложил ему работать в газете, и Гоша с радостью согласился. Гоша очень следил за своей внешностью и фигурой, он уже давно бросил курить, но пить бросить так и не смог, и часто в полном одиночестве садился у себя дома перед телевизором и выпивал бутылку водки, затем засыпал мертвецким сном, а наутро бежал на работу к себе в редакцию.
Жил он в трехкомнатной квартире довольно далеко, на Ленинском проспекте, его мама умерла, когда ему было всего двадцать лет, он очень любил рассказывать эту историю: «Сперва просто у нее что-то болело слева, все болело, но она продолжала ходить на работу, она работала врачом, а потом она — раз! — и умерла, просто села в кресло посмотреть телевизор, и так голову набок склонила и затихла.» Гоша остался сиротой, потому что его отец бросил их с мамой, когда Гоша был еще совсем маленьким, и уехал в Израиль, где нашел себе новую жену, помоложе. Гоша вел в газете раздел «Замочная скважина» и писал о различных сексуальных отклонениях.
Когда Маруся впервые пришла в редакцию «Резонанса», именно Гоша на утренней летучке представил ее всем сотрудникам, которые смотрели на нее не очень приветливо. Летучку вела заместительница Ольги Китоновой Эльвира, квадратная приземистая баба с пышным начесом и неестественно длинными накрашенными ресницами, объем которых был гораздо больше обычных человеческих ресниц. Маруся тогда пыталась шутить, подавать реплики, но после нескольких ее выступлений Эльвира, которая и так на каждую ее шутку бросала в ее сторону холодный взгляд, сказала: «Ну, может мы все же помолчим и послушаем более опытных коллег?» Но Гошу она очень любила, и потом Маруся неоднократно слышала от нее сетования по поводу того, что Гоша до сих пор не женат, она даже несколько раз пыталась подыскать ему пару. Однако Гоша не выказывал особенного желания жениться.
Последним увлечением Гоши была Ольга из отдела культуры, который и возглавлял Гоша, она даже несколько раз оставалась у него на ночь, но однажды, после такой ночи, когда они возвращались вместе утром на работу, Гоша вдруг остановился у метро у лотка, где продавали цветы, и купил букет красивых роз, после чего стал их самозабвенно нюхать, приговаривая: «Ах, как я люблю цветы! Что за роскошные розы!» Так нюхая эти цветы, Гоша и шел по Невскому с букетом до самой редакции, где они поднялись в лифте на шестой этаж и разошлись каждый в свой кабинет, а затем Гоша поставил эти цветы у себя на столе в вазу, которую ему накануне подарили на день рождения. С тех пор Ольга и Гоша возненавидели друг друга, причем до такой степени, что Гоша уже не мог спокойно слышать, если в его присутствии кто-нибудь просто называл ее имя, он все более и более пристрастно редактировал ольгины статьи, и однажды на летучке даже обвинил ее в полной безграмотности и незнании русского языка. В результате, Ольга была вынуждена уйти в другую газету.
***
После случая с «Гербалайфом» марусина мама решила найти по-настоящему серьезного специалиста, который бы дал ей рецепт похудения, но не при помощи каких-то там сомнительных снадобий, а просто разработал бы систему питания, дал нужные советы, в общем, отнесся ответственно к ее проблеме. Она опять нашла объявление в газете, где предлагалось «Похудеть за месяц на двадцать килограмм без ущерба здоровью».
Предварительно записавшись на прием по телефону, мама отправилась по указанному адресу. У входа перед железной дверью с надписью «ООО «Северная Пальмира» стояли два здоровенных охранника в камуфляже, они и показали ей, где касса, куда нужно было заплатить шестьдесят пять долларов — столько стоила консультация у профессора.
В кабинете за столом из черного дерева сидел очень представительный мужчина в очках и в белоснежном халате, вид у него был очень внушительный, и даже имя его, как маме показалось, она наверняка уже слышала, и не раз, настолько он был известен, потому что на груди у него была прикреплена бирка с надписью «Доктор медицинских наук, профессор Лебединский Сергей Иванович», потом она вспомнила, где слышала это имя, но тогда не могла, просто вылетело из головы.
Сергей Иванович сразу же предупредил ее, что сейчас развелось очень много шарлатанов, самозванных врачей, знахарей, которые практикуют непроверенные методы лечения, к примеру, тот же Гербалайф, это же очень вредно, поэтому всегда нужно сперва удостовериться, с кем имеешь дело, проверить лицензию, сертификат, а уж потом консультироваться, выслушивать чьи-либо рекомендации, и тем более начинать им следовать или платить деньги, кроме того, многие диеты, например, очень опасны для здоровья, можно запросто нажить себе язву желудка, камни в почках, а можно даже и рак, если вот так бездумно относиться к своему здоровью, не думать о последствиях… Сергей Иванович говорил еще минут двадцать, он еще раз предостерег марусину маму от всевозможных необдуманных и рискованных экспериментов со своим здоровьем, с печальными последствиями которых особенно в последние годы ему постоянно приходилось сталкиваться все чаще и чаще, и только после этого он плавно перешел к тому, что он в своей практике, прежде всего, руководствуется принципом Гиппократа non nocere, не навреди, и очень не любит, когда пациентам начинают нести всякую околесицу, чудес, по его мнению, не бывает, поэтому ко всему всегда нужно подходить реально, самое главное, это разумное и честное отношение и к себе, и к окружающим, так он считал, а это часто требует определенного мужества, причем, не только от врача, но и от пациента, именно поэтому он даже и никакого рецепта ей выписывать не будет, а просто скажет ей правду, сколь бы ни тяжела и ни неприятна она для нее ни была, мама должна будет отнестись к его рекомендации со всей серьезностью, так как своим опытным глазом врача он сразу же определил, что ей в данном конкретном случае нужно, то есть он ей мог сказать только одно:
-Вам просто нужно поменьше есть, — и все, на этом консультация была закончена.
***
В отделе культуры под руководством Гоши, помимо Маруси, работали три человека: очкастый патлатый Саша, хрупкая темноволосая и темноглазая Тамарочка и бойкая коротко стриженная сутулая брюнетка лет сорока пяти, Валя Гангуз.
У Гангуз были неестественно большие черные глаза, и, разговаривая с кем-нибудь, она неизменно пристально в упор глядела в глаза своему собеседнику. Раньше она работала завлитом в детском театре, но ее отношения с главным режиссером этого театра оставляли желать лучшего, она никак не могла с ним сойтись, потому что он был, по ее мнению, слишком жесток к актерам, ему не хватало гуманности, душевности и доброты, а это ее ужасно раздражало, потому что выше всего в жизни она ценила именно доброту. Потом, когда она лучше узнала Марусю, она рассказала ей о своей работе в театре более подробно, со всеми деталями. Например, о том, как она делала минет заслуженному артисту Российской Федерации Петру Кудренко, и в этот момент в гримерную вошел главный режиссер театра, который имел обыкновение входить в гримерную к артистам без стука. Вот тогда Валя впервые убедилась в антигуманности и жестокосердии режиссера, который, ко всему прочему, по ее наблюдениям, вовсе не любил детей, хотя и работал в детском театра, и это была его святая обязанность.
В спектакль о Коньке-Горбунке этот режиссер ввел двусмысленную сцену о том, как главный герой Ванечка проводит ночь в конюшне с кобылицей. Необходимость этой сцены режиссер обосновывал наличием в поэме Ершова строчек:
Наконец она устала:
«Ну Иван, — ему сказала,-
Коль умел ты усидеть,
Так тебе мной и владеть.»…
и далее:
«По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней.»
Сцена вызвала вполне закономерное возмущение общественности, хотя сами дети и ничего не заметили, однако присутствовавшие на премьере родители детей пожаловались в мэрию. А может быть, и вообще, никто ничего не заметил, потому что в этой сцене главный герой всего лишь уводил свою лошадь за кулисы, нежно похлопывая ее при этом по крупу, и оттуда некоторое время доносилось веселое лошадиное ржание, которое постепенно становилось все громче и громче, временами напоминая человеческие стоны, но точно, с уверенностью ничего было сказать нельзя, так что вполне возможно, что, на самом деле, это не родители, а просто несколько артистов театра, по отношению к которым режиссер был особенно жесток и бездушен, написали на него донос, где подробно изложили концепцию спектакля, и то, как режиссер, цинично хихикая, цитировал на репетициях Ершова, и то, какой смысл он придавал словам поэмы, что, по их мнению, могло пагубно сказаться на неокрепших детских душах, на которые и без того с экранов телевизоров ежедневно выливаются потоки насилия, жестокости и порнографии.
В результате, на просмотр спектакля пришла целая комиссия из комитета по культуре, а также директора четырехсот питерских школ, и спектакль запретили, и правильно сделали, жаль только, что самого режиссера не сняли, но у него были связи, и в Германии ему недавно даже дали премию, и вообще, он был известен своими смелыми экспериментами, поэтому общественное мнение в тот момент было на его стороне. В довершение всего, фамилия режиссера была Глюкман, что делало его трактовку русских народных обычаев и быта русских крестьян темой в высшей степени деликатной, углубляться в которую в мэрии никто не хотел, особенно накануне выборов нового мэра, которые тогда как раз были на носу…
Последнее обстоятельство особенно раздражало Валю, так как она хорошо знала его мать, и та, по ее словам, была толстая деревенская бабища откуда-то из Саратовской области, такая же неотесанная, как и он сам, а отца своего он вовсе не знал и в лицо не видел, так что откуда у него взялась такая фамилия она вообще не понимала…
Тамарочка рассказывала Марусе, что Валя неоднократно предлагала и их начальнику Гоше «отсосать», заверяя, что делает это профессионально, на высочайшем уровне. Тамарочку это ужасно злило, но она была вынуждена слушать молча ее циничные предложения. У Вали в театральной среде были огромные связи, и она этим гордилась. Она часто меняла свои наряды, но, в основном, ходила в пиджаке и в брюках, на лацкане пиджака она носила крошечный золотой семисвечник, который ей прислал ее израильский дядя. Валя вообще любила рассказывать о своей сексуальной жизни, при этом она повторяла, что она гетеросексуальна, но в ней присутствует «легкая лесбийсковатость».
Тамарочка жила с папой и с мамой, у нее раньше был муж, художник, но она прожила с ним недолго, потому что он не зарабатывал денег, а все лежал на диване и ждал, когда к нему придет вдохновение.
— Вот так, блядь, понимаешь ли, вдохновения он ждал. А жрать нам нечего было. И кой хуй мне было ждать, пока к нему вдохновение придет? Так, знаешь ли, и с голоду умереть можно. А у меня, между прочим, мама и папа, и у них только одна пенсия, и им нужно помогать.
Сначала Тамарочка собиралась пойти в аспирантуру, и старший научный сотрудник из Консерватории, который уже давно развелся с женой и жил отдельно, как-то раз пригласил ее в гости для того, чтобы ознакомиться с ее первыми публикациями — она публиковалась тогда еще только в научных изданиях, недавно окончила Консерваторию и была начинающим музыковедом. Он предложил ей пройти прямо по узкому коридору и сказал:
— Первая дверь направо,- она туда и повернула, а там оказалась огромная незастеленная кровать, простыни на ней были в полном беспорядке, тут Кирилл Митрофанович в ответ на ее вопросительный взгляд уточнил:
— Извините, я ошибся, следующая дверь.
В кабинете он стал читать ее текст, указывать на неточности и, по его мнению, недочеты и промахи, Тамарочка слушала, слушала, в конце концов, ей стало обидно, она встала и сказала:
— Спасибо вам за науку, очень интересно, но я, пожалуй, пойду!
Кирилл Митрофанович не стал ее удерживать, к тому же тут зазвонил телефон, выйдя за Тамарочкой в коридор, уже у дверей, он вдруг указал ей на стенку, где в беспорядке висели разные картины, которые он коллекционировал:
— Вот мое последнее приобретение, деревянная игрушка — русский медведь занимается oral love с американским орлом. Это можно даже подвигать.
Тамарочка, как всегда, была без очков, она долго напряженно вглядывалась в игрушку, но видела только красного медведя и сине-красного орла.
— Ну знаете ли, — наконец произнесла она, — тут очень трудно догадаться, чем ваш медведь с орлом занимается. Я вижу, у вас богатое воображение.
— Да нет, — внезапно смутился Кирилл Митрофанович, — у него просто писька отвалилась, у этого орла, а раньше все было в порядке.
В результате, вместо аспирантуры, Тамарочка пошла работать в газету.
После того случая она к нему не ходила, но он продолжал звонить ей по телефону, при этом, в основном, говорила Тамарочка, а он молчал и почему-то сопел…
Год назад Тамарочка познакомилась с немцем, тоже редактором газеты, он предложил им сотрудничать, а для начала выпустить один номер вместе, за это он предложил оплатить Гоше и Тамарочке поездку в Германию. Немец сдержал обещание — Гоша и Тамарочка через несколько месяцев, действительно, поехали в Германию, однако там их поселили в каком-то сарае, стоящем посреди чистого поля, в этом сарае не было даже кроватей, а только куча сена на чердаке, на котором они и спали, причем по ночам там было жутко холодно, и они спали не раздеваясь, так они провели две недели, а в конце этот немец приехал за ними на машине и отвез в аэропорт, этим и закончилось их пребывание в Германии. После этого Гоша тоже очень невзлюбил Тамарочку, во всяком случае, некоторое время после их возвращения из Германии ей было очень тяжело с ним работать.
***
Маруся открыла дверь, на пороге стоял Алексей Б. Он был одет в сиреневую непромокаемую куртку, на его крошечной правой ручке на среднем пальце сияло кольцо с огромным сиреневым камнем, а в левой ручке он держал засохшую веточку, усеянную мелкими сиреневыми цветочками.
Алексей одно время жил у Марфы, на Театральной площади. Но однажды Марфа позволила себе нечто неприятное, то есть она перешла за грань дозволенного, она позволила себе грубость по отношению к нему, и они с ней расстались. То есть расстались они не из-за этого, а была целая история.
Приехавшей из Москвы Катеньке негде было ночевать, и он предложил ей остаться у Марфы. То есть он, конечно, видел, что она недовольна, но ведь Катеньке было совершенно некуда идти, нельзя же было выгонять ее на улицу… А Марфа наутро потребовала у него ключи от квартиры. А он… Ну что ж он мог?… Он просто молча отдал ключи, а на следующий день он от нее переехал. Она мрачная, Марфа, она черная, он долгое время жил у нее, то есть, они жили вместе, у нее была там комната в коммунальной квартире. А потом она взяла в долг денег у его подруги Эльвиры, Эля живет сейчас в Австрии, у нее были деньги, и она дала их Марфе. Марфа купила себе еще две комнаты в этой коммунальной квартире и сейчас их сдает, она стала капиталисткой, Марфа, она живет за счет сдачи этих комнат. Но они с Марфой расстались, это была целая история…
С Катенькой Алексей познакомился в Москве, она дочь богатых родителей, ее мать связалась с мормонами, а мормоны — они же очень богатые. У ее матери огромная квартира на Фурштадтской, и даже мерседес, но она никогда и никого не приглашает к себе в гости. У них железные двери и охрана внизу. Только один раз, когда он провожал Катеньку, она пригласила его зайти к ним, и он зашел, но ее маман была очень недовольна. О, он видел это по ее лицу! Она сказала с ним буквально два слова, и все, и он видел, что она хочет, чтобы он поскорей ушел. Мормоны живут очень замкнуто, они никого не пускают в свой клан, но это очень богатая секта. У них свой мерседес, так же как и у его издателя из Перми, у него тоже есть машина, и уже одно то, что он сумел заработать на машину, показывает, что он не дурак, ведь далеко не у всех в наше время есть машина.
А они с Катенькой как брат и сестра, comme frere et soeur, он любит ее братской любовью, хотя Катенька очень нервная, однажды она запустила в него тяжелой сахарницей, и он едва успел увернуться, чуть его не убила. Она у него даже однажды ночевала, она пришла к нему в его отсутствие, и его маман ее впустила, хотя его маман вообще никому не доверяла, она не любила людей, а Катенька сумела втереться к ней в доверие, и маман ее впустила. Катенька все в его комнате перерыла, она даже читала его письма, она рылась в его дневниках, и потом написала ему записку, которая начиналась словами «Мертвенькому Лешеньке».
Когда он приехал, он не поверил собственным глазам, он подумал, что это за нахальство, impertinence. А после она осталась у него ночевать, и он даже дал ей надеть свои кальсоны, у него было много кальсон, осталось еще со времен военной службы, он же служил военным переводчиком, а теперь он пенсионер. Она надела его кальсоны и легла на кресло-кровать, а он спал на диване. А ночью они увидели за окном человека, он лез куда-то наверх, и они через окно заметили его ноги, черные, ноги бандита. Это был бандит, и они с Катенькой вскочили, и подбежали к окну, а потом отскочили в угол, испугались, что он их заметит и влезет к ним. А потом он заснул и ночью ему приснилось, что к ним в комнату влезли бандиты, и он им сказал: «Там спит маленькая девочка Катенька, не трогайте ее, не трогайте!» Вот такой сон ему приснился, он потом рассказал об этом Катеньке, и они с ней очень смеялись.
Катенька все время достает свою маман, ее маман живет с новым мужем, этим мормоном, и Катенька кокетничает с ним, поэтому маман ее от себя отселила. В детстве ее маман над ней издевалась, она пряталась от нее, когда Катенька была маленькая, а Катенька плакала, потому что не могла найти маму, она думала, что мама ушла. Ей не хватало любви уже с детства, такая вот manque d’affection. И теперь ее маман не дает ей денег, даже на еду, она хочет, чтобы Катенька вышла замуж и оставила ее в покое, а Катенька не собирается замуж, она очень любит издеваться над мужчинами, она сперва кокетничает с мужчиной, влюбляет его в себя, а потом грубо бросает. Это ее стиль.
Как-то в Москве они с Катенькой зашли в кафе «Три обезьяны», и она заказала себе бутылку «Кока-Колы», она все говорила: «Хочу пить, хочу пить!». А там одна бутылка «Кока-Колы» стоит целое состояние, ему пришлось заплатить, конечно, но ему эта ее черта очень не нравилась, это, в конце концов, надоедает. Он же, в конце концов, всего лишь нищий пенсионер, да и то пенсию он получил совершенно случайно. Он же очень слабый и совсем ничего не умеет! Его любой может обидеть! Просто один его начальник, милейший человек, Пал Николаич, очень хорошо к нему относился. А его уже тогда хотели выгнать из армии, всего за год до пенсии, ему не давали даже дослужить до этой пенсии, все плели интриги, разные гнусные интриги.
В детстве он жил у Пяти углов, на Владимирском проспекте, там его родина, в большой коммунальной квартире, его соседкой была пожилая актриса, она наряжала его в женские платья, даже подкрашивала ему глаза и губы, завивала волосы, и из него получалась очень хорошенькая девочка. Потом он женился, его жена была старше его, она наряжалась в кожаное обмундирование, брала в руки хлыст, и они устраивали сеансы садомазохизма, ему это очень нравилось. Раньше, до перестройки, он очень хорошо зарабатывал, и жена была весьма довольна. Это была уже вторая его жена, на первой он женился в совсем юном возрасте, когда еще был курсантом, и жена имела вкус, к таким вещам, можно сказать, aux choses plutôt viles — к каким-то гадостям. А ему это не нравилось, поэтому они с ней какое-то время промучились вместе, ну как это обычно бывает, и через пару лет расстались. Потом он встретил свою вторую жену, она была старше его и работала медсестрой в детской поликлинике, ведь дети — это совершенно безобидно, les enfants c’est innocent, и она работала с детьми. И то, что они делали с ней вместе, казалось ему уже гораздо более интересным, хлыст etc, il y a trouvé du goût, он находил в этом вкус. У них было два сына, и он хорошо зарабатывал, к тому же, он редко бывал дома, он уезжал в командировки, где ему приходилось переводить разным высокопоставленным военным, адмиралам, генералам.
А потом они вдруг резко обнищали, и денег у них совсем не стало, он стал получать очень мало. И его жена все время ругалась, жить с ней стало невозможно, поэтому он ушел и поселился у своей маман. Его жена продолжает работать в поликлинике avec les enfants innocents, но они живут очень бедно, практически в полной нищете, у них почти ничего нет. Он иногда встречается со своими сыновьями, рассказывает им, какие вкусные вещи он ел в Швейцарии, где ему подарили зимние перчатки для его сыновей, но одну пару он все-таки оставил себе, они ему показались очень красивыми и удобными, а ручки у него были почти совсем как у ребенка.
Его жена теперь его ненавидит и настраивает детей против него, ну что же делать? Что делать? Так устроена жизнь. Он устал работать переводчиком, к тому же против него постоянно плели интриги, это стало невыносимо. А его начальник Пал Николаич, милейший человек, он очень к нему хорошо относился, предложил ему написать заявление на пенсию, и хотя ему оставалось доработать еще полгода, ему дали пенсию, но только благодаря начальнику, так что он теперь пенсионер. Его маман была очень простая женщина, иногда они с ней ходили в гости к ее подруге, sa compatriote, ее землячке, она же родом из деревни Иваново.
А его отец был швед, он был очень благородный и трудолюбивый человек, поэтому у Алексея и была такая странная фамилия — Бьорк. Отец рассказывал Алексею, что в свое время шведы работали за один доллар в день, когда в стране был кризис, и денег ни у кого не было, платили всем мало, шведы работали на корчевке леса, и им платили по доллару в день, но они работали, не то, что русские, которые требуют, чтобы им платили огромные деньги, иначе они отказываются работать. Это неправильно. Это сугубо русская черта.
Одно время Алексей дружил с арабами, они очень милые. Они говорили ему, что русские женщины очень сильные. Вот только когда они ехали с этими арабами в автобусе, и они все начинали курить, он просто задыхался, так как не мог переносить табачный дым. У него же была предрасположенность к туберкулезу, как раньше, до революции, в Петербурге половина жителей страдала чахоткой, вот и у него тоже был туберкулез, но он вовремя вылечился, его гранд-маман его вылечила.
Она его очень любила, его гранд-маман, его бабушка, и когда она умерла, она оставила ему много денег, эти деньги лежали в большой глиняной вазе, целые пачки, и он приходил туда, брал пачку, тогда у него было много денег, он не придавал этому никакого значения, материальный вопрос для него просто не существовал, он тогда ходил в «Букинист» на Литейном, покупал там самые дорогие книги, иногда спекулянты предлагали ему редкие книги за двойную, и даже тройную цену, а он не торговался, платил, сколько они просили, деньги для него ничего не значили. Он не думал о будущем, а когда разразился кризис, все его деньги пропали. Потом он жалел, что не успел все их потратить, и на то, что осталось, он сумел себе купить только кожаное пальто, на меховой подстежке, уже несколько поношенное, но очень теплое, хорошее пальто, он носил его уже лет восемь, не меньше, но его можно было носить и дальше, это вечное пальто, ему сносу не будет.
А этот перстень на среднем пальце правой руки ему подарила одна дама, спонсор, это дар спонсора, дамы-адмиральши, большой поклонницы его таланта. У него вообще много драгоценностей, он их очень любил, особенно блестящие камни, они так сверкают, блестят… У него даже были драгоценные камни, просто, без оправы, и он иногда выкладывал их на тарелочку, садился и смотрел на них, смотрел… Их блеск завораживает, зачаровывает, как взгляд змеи…
Его знакомый поэт Анатоль Конура — так и произносится, с ударением на последнем слоге — живет в Саратове, на Волге. Он познакомился с ним случайно, у него очень странная внешность, даже невозможно описать. Он совершенно лысый, все лицо изрыто оспой, небольшие черные глаза, слегка косые, он очень высокий, просто огромного роста, и очень худой. Он сейчас приехал в Петербург, его содержит одна дама, благотворительница. Когда он видел его последний раз, он был в такой красивой разноцветной жилетке, эта дама ему подарила. Он рассказывал Алексею, что живет в Саратове в небольшом покосившемся домике со своей маман. Иногда по ночам на него нападает ужасная тоска, тогда он выходит из дому на улицу и громко кричит, просто кричит, и все.
Анатоль познакомил Алексея с якутским принцем, и этот принц написал ему письмо. Он переводит стихи Верлена на якутский язык, и на русский тоже пробовал, и даже посылал ему свои переводы, чтобы он их немного подправил, чтобы помог ему советом. Потом он случайно встретил его на Невском, он как раз выходил из «Книжной лавки писателя», со спины он даже принял его за девушку, одетую в брючный костюм, он высокий, тонкий, у него длинные прямые черные волосы, сзади собранные в хвостик, на нем была черная широкополая шляпа, и черный же брючный костюм… Ладно… Bien… В нем было свое очарование, некий шарм, это настоящий якутский принц.
У его подруги-художницы раньше была большая мастерская на улице Марата, там с ней жила еще одна художница, Маргарита, она такая, как бы это сказать, ну она очень маленькая, совсем небольшая, такого небольшого роста, в общем, она не совсем нормальная, но не в умственном смысле, в умственном смысле напротив, она очень тонкая, интеллигентная, а в плане физическом, она слишком маленькая. Короче говоря, она карлица. И вот Маргарита написала портрет Алексея, она сказала, что изобразила на этом портрете его внутреннюю сущность, а он на нем такой злой, но, в общем, сходство есть.
Его прадед Густав Бьорк был шведским подданным, верным слугой его королевского Величества Короля Густава Пятого. Сам он тоже служил в армии военным переводчиком, правда, сейчас он был уже на пенсии, причем на пенсию он вышел в звании младшего лейтенанта, этот факт один его знакомый назвал даже достойным книги рекордов Гинесса, так как других примеров, когда в отставку после двадцати лет службы уходили в чине младшего лейтенанта, он не знал. Этой теме он посвятил одну свою небольшую повесть «Подпоручик и Ж», все смеются, но Ж — это Жестокость, Женственность, Жеманство, Жизнь, Жажда, Жажда славы, Жребий, Жестокий Жребий мой…
В юности, когда он еще был курсантом, он как-то шел по улице и громко-громко смеялся, ему почему-то было просто очень весело, к тому же в кармане у него лежал маленький томик Ронсара, который он только что приобрел в «Букинисте», и тут неожиданно перед ним, как из-под земли, возник патруль, прапорщик и два солдата срочной службы, они очень грубо и резко поймали его за руку, что, правда, им удалось с большим трудом, потому что он очень сильно в это время размахивал обеими руками, находясь как бы в полете, и отправили его на гауптвахту, так как решили, что он пьян или же обкурился, а он вообще никогда не пил, не говоря уж о наркотиках, просто ему было очень-очень весело, и он чувствовал неземную легкость во всем теле. Правда, с гауптвахты его на следующий день отпустили, потому что он был курсантом Института военных переводчиков, куда поступить было очень сложно и поэтому там учились только по блату, то есть люди с большими связями, так что на гауптвахте решили, что лучше с ним не связываться.
Недавно он закончил свой роман «у О».
О — это Образ, Обаяние, Очарование, Обладание, Обольщение, Оригинальность, Осторожность, Откровенность… Все это своего рода идеал, к которому он стремится, у которого рядом находится, но все еще пока не достиг.«у О» является продолжением «о У».
У — это Универсальность, Уникальность, Ум, Удивление, Условность, Уловки, Усмешки, наконец, Убийство и Унижение… Это вещи, о которых он знает практически все и о которых он хочет поведать своим читателям.
Всю жизнь он страдал от непонимания окружающих, служба и семья ужасно его давили, и только теперь, на пенсии, он сбросил с себя тяжесть прошлого, расслабился и раскрепостился, веселье и легкость — вот, что он чувствует сейчас постоянно, и уже никто не отправит его за это на гауптвахту, даже его фамилия Бьорк кажется ему теперь слишком длинноватой и тяжелой, поэтому он предпочитает, чтобы его называли просто Алексей Б., ибо Б — это Благородство, Бескорыстие, Безгрешность, Безрассудство, Будущее, Бережливость, Бессердечность и Беспринципность, но, в то же время, и Безутешность…
***
Маруся вышла на Невский проспект. Раньше, когда она еще училась в школе, ей очень нравился Невский, потому что там было очень много народу, она чувствовала себя в этой толпе надежно спрятанной от посторонних взглядов, обычно она, когда шла по улице, ловила на себе взгляды прохожих, и это ее ужасно раздражало, возможно, все пялились на нее из-за ее огромного роста, она была как баскетболист, и мама неоднократно советовала ей заниматься спортом и именно баскетболом: «Ты спокойно будешь просто класть мячи в корзину,» — говорила она. Марусю ужасно раздражали эти люди, которые на нее пялились, поэтому она любила ходить исключительно по Невскому проспекту, там было так много народу, что можно было вообще не волноваться, как ты выглядишь — все равно в толпе тебя не видно.
От яркого солнца и огромного количества снующих вокруг людей у Маруси пересохло во рту, она хотела купить замороженный сок, который всегда покупал себе Светик, он очень хорошо утолял жажду, но, в отличие от мороженого, от него нельзя было растолстеть, а для Светика, который всегда следил за своей фигурой, это было немаловажно. Она опустила руку в карман, но обнаружила там только семь рублей, сок стоил шесть рублей, значит, у нее не оставалось денег на обратную дорогу, настроение от этого у нее резко испортилось.
Помещение редакции находилось во дворе, недалеко от Екатерининского садика. Вадим Блумберг, главный редактор издательского дома «Блум-пресс» уже ждал ее в своем кабинете.
«Hello, my darling! Come in, please!» — поприветствовал он ее почему-то по-английски. Оказалось, что он уже давно следил за ее творчеством и с большим вниманием и интересом прочитал ее последний роман, что само по себе было ему не свойственно, так как в последнее время он редко дочитывал книги до конца. Вот в детстве он очень много читал, так как у его отца, Аркадия Моисеевича Блумберга, была замечательная по тем временам библиотека, его отец сам был замечательным детским писателем, которого очень ценил сам Маршак, но заслуженного признания он так и не получил, отчасти, конечно, из-за отчества и фамилии, но были и другие причины, одна его книга для детей дошкольного возраста оказалась настолько смелой и опережающей свое время, что он и сегодня еще не решается ее издать, а только думает и советуется.
Но теперь, чем больше он занимался книгами, тем меньше они его интересовали. Можно было даже перефразировать известное изречение: чем больше он узнавал книги, тем больше он любил людей, причем людей желательно простых, далеких от культуры, таких, как его жена, например, или две его замечательные дочурки, которые еще совсем недавно научились говорить, так что им пока тоже не до книг, или, например, фотомодели, они его тоже очень интересовали, так как женщина, по его мнению, вообще не должна быть слишком умна, потому что ум ее портит. Но марусины книги он все равно прочитал и, если быть до конца откровенным и говорить начистоту, то он должен был ей признаться, что они ему не то, чтобы совсем не понравились, но в общем-то, и не очень понравились, вот если она знакома с творчеством Лимонова, то это совсем другое дело, Лимонов — великий писатель, и он как раз сейчас собирается издавать полное собрание его сочинений. Но, в конце концов, все это не важно, для него было бесспорно одно: словом Маруся вполне владела, но больше всего ему нравилось ее имя, и если это она сама себе такое имя выдумала, то это просто замечательно, перед этим именем он просто готов был снять шляпу, это было гениально. Собственно, из-за ее имени он и пригласил ее к себе.
Дело в том, что сейчас в обществе существует определенный спрос на женщин, пишущих детективы, и она не могла, да и просто не имела права терять времени даром, ей, владеющей словом, да еще с таким именем, по его мнению, нужно было немедленно браться за это дело, причем он ей это предлагал исключительно из личной симпатии и расположения, так как, на самом деле, к ним стоит целая очередь авторов, в том числе и женщин. Тем не менее, Маруся тоже вполне могла бы попробовать себя в этом жанре, и тогда бы они еще раз встретились и поговорили, к тому же и платят у них неплохо, гонорар плюс процент от прибыли, если книга пойдет.
Он вообще считал, что современные писатели разучились писать связно, они не способны заинтриговать читателя, не понимают, что в романе должен быть настоящий захватывающий сюжет, хотя тот же Достоевский, например, писал, в сущности, детективы, а нынешние все порабощены серой действительностью, находятся в рабстве у бессвязных фактов собственной жизни. Все это, конечно же, не относится лично к Марусе, о творчестве которой у него еще не сложилось окончательного мнения, он собирался вернуться к ее роману где-то через годик, когда их молодое издательство окончательно встанет на ноги, однако и с ней ему, видимо, пусть через годик, но придется серьезно поработать, так как многие авторы, занимающиеся так называемой «серьезной литературой», у нас, к сожалению, очень часто забывают об элементарных вещах, например, разбить свой текст на небольшие главки, чтобы его было удобнее читать. Вот они, например, в своем издательстве за последний год выпустили и Кундеру, и Павича, и те разошлись на «ура», но он был убежден, что если наших авторов, рукописи которых сейчас лежат у него в столе, чуточку причесать, разбить их тексты вот на эти главки, да еще набрать красивым шрифтом, то они, он не сомневался, еще дадут сто очков вперед не только Кундере или там Акройду, но и самому Борхесу и Маркесу. Но для этого нужно было подождать ровно год, до того времени, когда он собирался начать наступление на рынок в этом направлении…
***
«Фюрер был прав«,- Костя часто поднимал эту тему, а иногда неожиданно обрывал этой фразой свои длинные тирады, как бы подводя итог своим рассуждениям и обращаясь к истине в последней инстанции. Косте очень нравилось лицо Гитлера, оно притягивало его из-за какого-то запечатлевшегося в нем затаенного страдания и внутренней неуверенности в себе, так, во всяком случае, ему казалось.
Костя вообще считал, что буржуазной культуре так и не удалось что-либо реально противопоставить откровениям Ницше, который вплотную приблизился к постижению человеческой природы, но в последний момент не выдержал, впал в истерику и свихнулся. Нечто подобное произошло и с Гитлером. Поэтому вся современная культура представляла собой всего лишь вялую отмашку от всех самых важных тем и идей, так как сама эта культура была, в сущности, идеологией победителей, которым и не надо было особенно напрягаться для оправдания своего существования. Именно поэтому истину, по мнению Кости, надо искать у побежденных, так как только у них идеи по-настоящему онтологичны и бытийственны, ведь даже Христос прошел путем поражения…
Но все эти поражения — всего лишь шаги на пути к окончательной Победе, просто цель слишком велика и путь к ней огромен. Так, самый большой корабль, предназначенный для дальнего плавания, реже других заходит в уютные гавани, потому что все время стремится к достижению неведомого берега, на который еще не ступала нога человека. Это и есть путь веры, просто надо верить, что именно ты, и никто другой предназначен для достижения этой цели и окончательной Победы. Но для этого надо учиться, и, главным образом, на ошибках прошлого…
Маруся не особенно удивилась, когда Костя сразу же с нескрываемой злобой воспринял ее рассказ о предложении Блумберга. Особенно его возмутило утверждение о том, что Достоевский писал бестселлеры, Костя был просто вне себя от ярости, тем более, что отчасти это было действительно так, он был даже с этим согласен. Достоевский обтесывал характеры своих персонажей, подгоняя их под свои идиотские сюжеты, проститутка у него была влюблена в убийцу, Ганя падал в обморок, но не брал горящих денег, Грушенька отправлялась на каторгу вслед за Митей, и все вокруг были без ума от этого дурачка Мышкина… Да, Достоевский писал занимательные детективы и дамские романы, хотя, конечно, не такие слащавые, как сны Веры Павловны, но все равно, все это потом вышло боком России, потому что именно из-за Достоевского и, может быть, еще из-за того случайного снаряда, что угодил в штаб генерала Корнилова, белые проиграли гражданскую войну. Просто они были ко многому не готовы, а главное, они были слишком связаны моралью, религией и прочими предрассудками, от которых так настоятельно предлагал избавиться еще Ницше.
Конечно, для России было бы лучше, если бы еще раньше Блок и другие в качестве кумира избрали себе не больного Соловьева, а Константина Леонтьева, например, или хотя бы, на худой конец, чуточку больше прислушивались к Розанову. Но зато теперь, по прошествии многих лет, после всех этих жутких испытаний, войн, подлостей, убийств, именно здесь, в России, по глубокому убеждению Кости, должен был выработаться особый устойчивый животный тип человека, появление которого предвидел Ницше, Белокурая Бестия, настоящий Сверхчеловек. Сам этот сверхчеловек рисовался Косте в виде денди, допускающего обязательную небрежность в одежде и поведении, однако эта небрежность вовсе уже не будет знаком его пренебрежения к себе или уродства, напротив, она будет знаком его внутренней свободы и презрения к окружающим, так как этот новый человек будет думать исключительно о себе, хотя бы потому, что он наконец-то избавится от иллюзий и осознает свое полное одиночество в мире, где каждый и на самом деле уже сейчас пребывает как бы в пустыне среди диких зверей.
Все это Костя чувствовал по себе, ибо еще десять-пятнадцать лет назад, хотя он уже и тогда считал себя выше других, на самом деле, он был еще очень слаб, так как не постиг главного и тоже находился во власти предрассудков. А главное заключается в том, что человек — это животное, причем очень опасное и коварное животное. Не поняв этого, невозможно вообще ничего понять в этом мире, который сразу же лишается всякой логики и своего основного стержня. Почему, например, среди крупных политиков, то есть среди людей, находящихся у вершин власти и сегодня можно встретить людей не то, что не прочитавших ни одной серьезной книги, но и просто с трудом изъясняющихся по-русски? Разве это не доказательство ничтожности человеческих знаний и культуры? Причем это касается не только политики, многие известные писатели сегодня тоже не особенно утруждают себя чтением книг. Но все-таки, есть же какая-то сила, которая возносит одного человека над другим, и ответ на этот вопрос Косте был предельно ясен — человеческий мир устроен по законам животного мира.
Даже с этой примитивной и вульгарной социалистической культурой и коммунистической идеологией — и то было не все так просто, как Косте казалось раньше, только теперь он понял, что советские поэты и художники, создавая отвратительные, уродливые стихи и картины, были примитивны и просты только на первый взгляд, на самом же деле они, может быть, сами того не осознавая, таким образом защищали свои привилегии, квартиры, курорты и другие «теплые места», вокруг которых они как бы всем стадом паслись, иными словами, их картины и стихи были чем-то вроде того, чем является отвратительный внешний вид для обитающей в болоте жабы, то есть средством самозащиты от нападения других особей. Не каждый ведь и среди диких зверей решится сожрать жабу, а большинство людей тем более от одного ее внешнего вида передергивает. Таким образом, все это, в сущности, имеет весьма слабое отношение к идеологии, которую так долго и нудно разоблачали русские философы-эмигранты. Костя, например, еще десять лет назад не мог себя даже представить в Союзе Писателей, от одной мысли об этом его всего буквально корежило, и все потому, что тогда он был еще очень слаб.
Но теперь, целых десять лет пролежав в своей комнате перед постоянно включенным телевизором, он постепенно настолько закалил свой дух и изменил свою природу, что вполне даже мог бы вступить сегодня и в Союз Писателей, жаль только, что его в прежнем виде больше не существовало. И все-таки, Костя не мог окончательно отказаться от служения красоте, хотя бы потому, что, по его мнению, однажды сделав ставку в игре, уже нельзя от нее отказываться, иначе сама игра вообще утрачивает всякий смысл. Поэтому он, скорее, и сейчас сравнил бы себя самого не с жабой, а с цветком, но особо устойчивым ко всевозможным внешним воздействиям.
Костя очень надеялся, что такие цветы скоро в изобилии произрастут на русской почве, и их уже не смогут перебить никакие сорняки, это будут новые достоевские, леонтьевы, блоки, тютчевы, но прошедшие через суровый естественный отбор…
Может быть, он, Костя, даже созрел до того, чтобы написать детектив по заказу Блумберга, жаль только, что Блумберг предложил это сделать не ему, а Марусе, так как она сама сейчас не имела права этого делать, потому что должна была принять эстафету бесконечных поражений и вести свой корабль туда, куда ей указывали путь звезды, то есть творения погибших в пути художников и поэтов…
И все-таки, Марусе иногда казалось, что лежать на диване перед постоянно включенным телевизором мог бы каждый, однажды она даже выразила свои сомнения Косте вслух, но он был с ней категорически не согласен, он считал, что, в отличие от большинства, он лежит на диване сознательно, то есть и в данное время он занимался чем-то не менее сложным и важным, чем тогда, когда выносил трупы в больнице или работал в библиотеке. Он лежал на диване, потому что весь мир устроен наподобие вселенной, а в человеческом мире, по его мнению, незримым образом присутствует такая же планетарная система, и маленькие планеты рано или поздно начинают вращаться вокруг более крупных. Поэтому, если ты хочешь подчинить себе мир, то не должен сдвигаться с места, и в прямом, и в переносном смысле.
Костя не должен был дергаться, делать лишних движений, а иногда и просто шевелиться, каких бы неимоверных усилий ему это порой не стоило, каким бы испытаниям он ни подвергался, ибо Костя постоянно чувствовал колоссальное сопротивление мира. Ведь и Блумберг, например, вынудил Марусю сначала несколько раз себе перезвонить, а потом прийти в нужное для него время. И именно поэтому у него, в отличие от Маруси, денег достаточно — Костя в этом не сомневался — и не только на мороженое. Правда, у самого Кости денег было пока тоже не достаточно, и не только на мороженое, но он считал, что просто перед ним стоят задачи совсем другого масштаба, чем даже перед Марусей, не говоря уже о Блумберге, ведь глядя на самые большие планеты, как и на очень крупные корабли, уходящие в море, не сразу можно определить, куда они движутся.
Конечно, у Маруси, в отличие от Кости, не было даже пенсии, чтобы позволить себе лежать целыми днями на диване. Но ведь и эту пенсию тоже было не так просто заработать, для этого нужно было сначала немного попрыгать, поскакать, покувыркаться, поплясать, побродить по кладбищу, броситься под трамвай, побыть Котом, разбить здоровенное небьющееся стекло в Центре Помпиду, попав ногой в нужную точку, отважно сражаться с целым легионом французских полицейских, немножко побыть Наполеоном, принимая их парад, запустить ботинком в заведующую библиотеки, и сделать еще много чего, что Костя сразу даже и не мог Марусе перечислить, так что, если она хотела сразу же лечь на диван, как Костя, и целыми днями лежать, то ей тоже нужно было нечто подобное обязательно проделать, если у нее было такое желание, то попробовать она, конечно, могла, а если она не хочет этого делать, то пусть садится и пишет детектив, в поте лица зарабатывая свой хлеб насущный, бегает, высунув язык, по заданию Гены и Гоши.
А все, что Маруся в течение нескольких часов недавно рассказывала про Блумберга и презентацию, Костя мог бы изложить сейчас гораздо короче и нагляднее, у него для этого был уже выработан свой язык — он мог бы сейчас просто встать, несколько раз перекувырнуться через голову, проползти на животе до туалета и начать пить воду из унитаза, вот и все, так он понимал всю эту презентацию и все, что ему Маруся так долго рассказывала при помощи такого большого количества слов. Косте слов вообще было не надо, он сам, как гусеница или пчела в дзенской поэзии, полз по полу, и это было его небольшее хокку на заданную Марусей тему.
***
Блумберга Маруся уже встречала год назад, он тогда был главным редактором в издательстве «Цейтнот», что существовало при Центре Изящной Словесности, и в частности, там тогда готовилась к изданию серия «Классики девяностых», куда, по его замыслу, должны были войти как сочинения наших современников, так и Толстого, Григоровича, Лескова, Державина, Маркиза де Сада, Гете, Сервантеса, Плутарха, Данте, Ницше, то есть всех, чье творчество, вне зависимости от эпохи и страны проживания, хотя бы частично попадало на последнее десятилетие какого-нибудь столетия.
Презентация этой серии состоялась в помещении Центра Изящной Словесности на Васильевском, где Маруся впервые и увидела Блумберга. Но он ее вряд ли запомнил, так как вечер был организован таким образом, что за огромным овальным столом в центре зала расположились герои торжества, «классики девяностых» из наших современников, то есть писатели, которых уже опубликовали либо собирались опубликовать в этой серии, а также наиболее почетные гости — тоже писатели, депутаты городского собрания и представители городской администрации — за этим столом Маруся, в том числе, увидела блядского вида молодую бабу, телеведущую с шестого канала, с ней Маруся часто сталкивалась, когда работала у Васи, как оказалось, она тоже писала прозу, что-то в детективном жанре. Оттого, что эта блядь сидела за столом, среди писателей, а Маруся должна была сидеть на стульчике у стены, среди журналистов, от этого Марусю вдруг охватила такая злоба, что она даже хотела сразу же встать и выйти, но на улице было жутко холодно, мела февральская пурга, а в зале было тепло, к тому же, в соседней комнате уже накрывали стол для фуршета… Маруся в тот день очень устала, поэтому она все-таки осталась, так и не встала со своего стула у стены. По этой же причине, потому что она сидела не за столом, Блумберг вряд ли ее тогда запомнил.
Вечер открыл бородатый мужик, чем-то похожий на русского купца, с мягкими и слегка смазанными чертами круглого лица, он, как раз баллотировался в Думу по одному из питерских округов, где место депутата по каким-то причинам оказалось вакантным, баллотировался он то ли от Союза Правых Сил, то ли от «Яблока», Маруся толком не поняла, но фуршет и саму презентацию организовали именно они, поэтому кандидату в депутаты и предоставили слово в первую очередь.
Кроме того, всем были розданы листочки с пресс-релизами, а также аннотациями на книги серии, главным образом, наших современников, присутствующих за столом. Правда, Марусе попалась среди них и аннотация на «Анну Каренину», создатель которой характеризовался как «величайший мастер русского языка, классик мировой литературы, автор романов „Война и мир“ и „Воскресение“», а сам роман «Анна Каренина» там был «трагической историей женщины, мечущейся между двумя знакомыми и понятными всякой женщине чувствами, чувством любви и чувством долга, но так и не сумевшей сделать свой окончательный выбор». В целом же творчество Толстого «излучало благородный аромат увядания, столь характерный для общей атмосферы культуры конца XIX века» — этой фразой с небольшими вариациями, связанными со временем проживания авторов, завершались практически все аннотации к представленным в серии книгам. Некоторые из них, как в случае с Толстым, были анонимными, а большинство, главным образом, на книги сидевших за столом наших современников, были написаны Леонидом Торопыгиным, который и являлся составителем этой серии.
Некто Виктор Листов, автор сборника рассказов «Дорога дальняя» был охарактеризован в аннотации как «русский Фолкнер». Листов раньше работал шофером-дальнобойщиком, и теперь продолжал работать шофером, но уже такси. Ознакомившись с этой аннотацией, Маруся невольно окинула взглядом сидевших за столом, стараясь определить, кто из них больше всего похож на таксиста — она отметила для себя, по крайней мере, троих, которые по ее мнению могли быть таксистами, но к ним в машину, пожалуй, не сел бы даже Светик.
Она часто слышала эту историю про то, как Светик в образе Марлен Дитрих поймал тачку. Водитель завез его в лесопарк пригорода Москвы, где заставил отсосать, а потом попросил выйти и подтолкнуть машину, а когда Светик вышел, то уехал вместе с его документами и деньгами, обдав Светика выхлопными газами, и оставив его в полном одиночестве под осенним дождем. Приятель Светика Василий Кандыба написал на эту тему целый рассказ, который он дал почитать Марусе. У него в рассказе уже получалось, что Светик просто зачарованно смотрел на водителя, за окном моросил мелкий дождь, падали желтые листья, дул ветер, а потом такси умчалось в ночную даль, оставив Светика в полном одиночестве. После этого Кандыба звонил Марусе и спрашивал, а понятно ли, что Светик отсосал у водителя. Маруся сказала ему, что нет, все-таки как-то непонятно. Тогда Кандыба приписал в конце: «У любви солоноватый вкус, — подумал Светик», — и все, этот вариант был окончательный.
В Париже таксистами обычно работают негры, как и в Нью-Йорке, правда, французские негры очень сильно отличаются от американских, они гораздо менее наглые и лучше воспитаны. Однажды ночью в Париже Маруся заблудилась и никак не могла найти дом Пьера, тут перед ней из темноты возник негр, она сначала очень испугалась, потому что негр возник совершенно неожиданно, так как был черный и сливался с темнотой, но он вежливо ей улыбнулся и помог ей сориентироваться в пространстве, указав дорогу к нужной ей улице.
Отечественные таксисты, за исключением Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе», вообще никогда не вызывали у нее никаких чувств, она их просто не замечала, поэтому, наверное, теперь ей и было так трудно определить, кто из сидевших за столом Листов. Она также вспомнила историю, которую ей рассказала Тамарочка из «Резонанса», как она однажды ночью возвращалась совершенно пьяная домой и проходила мимо Марсова поля, а рядом затормозило такси и ее предложили подвезти.
Она жила с мамой и папой в Рыбацком, с мужем-художником она уже тогда развелась. Раньше у нее был еще брат, но он очень сильно пил и однажды в припадке белой горячки покончил с собой, правда, это произошло с ним в отделении милиции, и Тамарочка была совершенно убеждена, что это сделали милиционеры, они его сами повесили, а он бы никогда такого с собой не сотворил. Тамарочка тоже часто напивалась до полного бесчувствия, и если это с ней происходило на фуршете, то потом ее нужно было как-то доставлять домой, потому что она себя уже совершенно не контролировала, и могло случиться все, что угодно.
Вот после одного из таких фуршетов она и оказалась ночью одна в районе Марсова поля, денег у нее с собой было очень мало, поэтому она решила идти до Рыбацкого пешком, это было очень далеко, но к утру она надеялась все же попасть домой.
Маруся все это очень хорошо себе представляла. Тамарочка шла пешком вдоль Марсова поля и огромная белая луна светила в середине неба, была ранняя весна и под ногами лед с водой, сначала ей надо было пройти по Фонтанке, потом по пустому Невскому… И вдруг у Марсова поля рядом с ней затормозило такси. Площадь была совершенно пуста, вокруг ни души, и машины ни одной, а это такси, неизвестно откуда взявшееся, вдруг затормозило рядом с ней. Тамарочка шла, покачиваясь, и все видела и воспринимала вокруг себя как в тумане — настолько она была пьяна. Такси остановилось и водитель, открыв дверцу, стал приглашать ее в машину. Тамарочка сперва отказывалась, но потом подумала, что можно и сесть, ведь до дому ей все равно не дойти. Лица водителя она не различала, перед ней было какое-то бесформенное пятно, а голос был тягучий, тоже бесформенный и чуть мяукающий.
Они ехали по пустынным улицам и Тамарочка все хихикала, сама не зная почему. Когда машина подъехала к тамарочкиному дому, водитель почему-то не затормозил, а свернул на соседнюю улицу, а потом заехал в глухой двор. Там он остановил машину и, засунув руку под тамарочкино сиденье, нажал какой-то рычажок, сиденье опустилось назад, и Тамарочка оказалась в лежачем положении. Она пыталась сопротивляться, но сама даже не знала до конца, чего хочет — чтобы ее трахнул этот неизвестный таксист или чтобы он ее отпустил. А таксист осторожно залез на нее, расстегивая свои брюки, он явно боялся ее насиловать, наверное, не хотел, чтобы потом на него заявили в милицию. Все его движения были плавными и мягкими, а голос гнусавым и почему-то унылым: «Подожди, подожди,- повторял он, — подожди, подожди». Он стянул с Тамарочки колготки и трусы, задрал юбку и пристроился между ее задранных ног, которые упирались в потолок машины. Тамарочка почувствовала в себе его член, он был такой же мягкий и унылый, как и его голос и весь его расплывчатый облик. «Ты не бойся, я кончать не буду, — услышала она после нескольких минут монотонного подергивания. Таксист отвалился от нее и вернулся на свое место. «Слушай, выходи за меня замуж, а?» — вдруг сказал он. «Ты меня отталкиваешь и в то же время обнимаешь, это возбуждает». Тамарочка в это время натягивала колготки, стараясь их не порвать. Она немного протрезвела, и теперь в ней постепенно нарастала злоба. В ответ на предложение таксиста она разразилась хриплым злобным хохотом. Казалось, таксист внезапно обиделся и замолчал. Тамарочка же продолжала давиться от смеха, ей почему-то было ужасно смешно. Таксист же довез ее до дому и, ни говоря ни слова, высадил у подъезда. А войдя в квартиру, Тамарочка обнаружила, что у нее из сумки исчезли кошелек и паспорт.
На следующую ночь она услышала звонок в дверь. Она испугалась и затаив дыхание стала ждать, что будет дальше. Звонок прозвенел еще раз, потом в дверь стали стучать, ее родители спали в дальной комнате и ничего не слышали, а дверь была ветхая, и однажды ее уже ломали — когда у ее брата был алкогольный психоз, он, сам того не заметив, выломал из двери замок. Поэтому Тамарочка подумала, не позвонить ли ей в милицию и не сообщить ли, что к ней ломится неизвестный грабитель. Но вскоре все стихло. Утром Тамарочка выходя из квартиры, увидела, что из жестяного почтового ящика, прибитого к дверям ее квартиры, торчит паспорт в черной пластиковой обложке и коричневый кожаный кошелек. Она вытащила его и открыла — кошелек был пуст, не осталось даже мелочи, которая там только и была. Это происшествие очень удивило Тамарочку, то есть ее удивило ее собственное поведение, объяснить которое она никак не могла.
Маруся вообще никогда ничего не слышала раньше о Листове, однако в аннотации было сказано, что его сборник «Дорога дальняя» уже переведен на французский и сейчас переводится на немецкий и английский языки, а также то, что на эту книгу в различных журналах и газетах к настоящему моменту вышло уже сто шестьдесят рецензий. Автора же аннотации к книге Листова, критика Леонида Торопыгина, Маруся, наоборот, неплохо знала и даже несколько раз с ним встречалась.
Он жил в Москве на Ордынке в двухкомнатной квартире вместе со старенькой мамой, которая, вроде бы, когда-то была адвокатом по делу Синявского-Даниэля. Познакомилась же Маруся с ним тоже в Москве, когда приехала за гонораром в редакцию «Универсума», где он тоже печатался. Из соседней с бухгалтерией комнаты, где располагался отдел культуры, доносился едкий запах табачного дыма, перемешанный с перегаром, она почувствовала его сразу, когда шла по коридору в бухгалтерию, на обратном пути ей навстречу и попался вышедший оттуда, очевидно, по нужде, заросший волосами и косматой бородой, с вылезшими из орбит глазами и отвисшей нижней красной губой, весь перекошенный, с явным искривлением позвоночника, мужик. Он был такого маленького роста, что едва приходился Марусе по плечо. «Ну ни хуя себе хуя! — вдруг громко завопил он, увидев Марусю, — А ты что, еб твою мать, блядь, здесь делаешь, на хуй! Почему я тебя здесь раньше никогда не видел, пизда ты ебаная!», — а потом добродушно предложил ей пройти к ним в кабинет и присоединиться к их компании. Это и был критик Леонид Торопыгин.
Раньше его Маруся знала только по некоторым статьям, которые он публиковал в этой московской газете, больше всего ей запомнилась одна из них, где Торопыгин проводил аналогию между Борисом Березовским и Парисом, в качестве Елены Прекрасной выступала дочь Ельцина, Татьяна, информационная война олигархов напоминала ему Троянскую войну, а следователь Волков, который вел тогда дело «Аэрофлота» и Березовского, сравнивался, соответственно, с археологом Шлиманом… Статья так и называлась: «Борис Березовский как Парис».
В другой аннотации на роман Вячеслава Сусанина «Свалившийся с неба», которую тоже написал Торопыгин, автор уже характеризовался как «русский Маркес», «культовый, модный писатель, к сожалению, пока мало известный широкой публике» — в этом Торопыгин видел существенное отличие в положении модного писателя в России от писателя, который считается модным на Западе, так как на Западе такой писатель «окружен всеобщим вниманием и привлекает к себе интерес не меньший, чем звезды шоу-бизнеса…» Сам же роман провозглашался величайшим творением всей русской литературы двадцатого века, завершавшим поиски таких ее непревзойденных корифеев как Набоков, Солженицын, Андрей Белый, Шолохов, Довлатов, Битов, Маканин и какой-то Генкин — кто это, Маруся вообще не знала. В аннотации также указывалось на особую роль философа Григория Нежинского в формировании творческой личности Сусанина, так как он являлся не только автором предисловия к «Свалившемуся с неба», но этот «русский Кастанеда» еще и сам был центральной, ключевой фигурой романа, «богом и царем» для Сусанина, примерно тем же, чем был Вергилий для Данте, когда тот спускался в царство мертвых, каковым, по большей части, и была, по мнению Торопыгина, вся современная отечественная литература.
Славика Сусанина Маруся тоже знала, обычно он сидел в баре при галерее неподалеку от Невского, чаще всего в компании вместе с Загорулько и Нежинским, она помнила его еще по выступлению с писателем Серполевым, который тогда так напился, что едва не свалился со сцены, тогда же Славик давал ей свои первые произведения, где описывал кошку, которой очень хотелось сношаться, и переживания старого ветерана. Это было уже лет десять назад, но с тех пор Славик очень мало изменился, по крайней мере, внешне — трезвым его Маруся за все это время не встречала ни разу.
Тем временем, пока Маруся разглядывала аннотации, увесистую пачку которых держала в руках, кандидат в депутаты уже успел изложить некоторые тезисы своей предвыборной программы и перешел к наиболее «остро стоящему и всех волнующему» жилищному вопросу. В частности, он крайне негативно отозвался о намерении губернатора Петербурга реконструировать хрущевские пятиэтажки, не выселяя оттуда жильцов, он вообще не мог себе представить, как это люди будут там жить, когда день и ночь над ними будут грохотать отбойные молотки и строительные лебедки. По его мнению, все пятиэтажки надо было просто снести, а уже на их месте, на том же фундаменте, надо было возвести новые современные дома с просторными комфортабельными квартирами, что, он считал, было гораздо лучше, удобнее, и главное, экономичнее, он и его советники уже все просчитали, и все эти расчеты лежали прямо тут, у него на столе, в папке, по которой он при этих словах даже похлопал рукой. Не говоря уже о том, что и людям, которые живут в этих домах, тогда не пришлось бы мучиться и страдать от грохота, который не давал бы им покоя ни днем, ни ночью во время реконструкции их разваливающихся домов — они могли бы просто сразу въехать в удобные светлые квартиры.
Одним из возможных источников финансирования этого жилищного проекта могли бы стать, к примеру, колоссальные средства, отпущенные на строительство нового Ледового Дворца, строившегося тогда к предстоящему чемпионату мира по хоккею, который Петербургу, по его мнению, был абсолютно не нужен, и не только потому, что на его строительство было угрохано черт знает сколько средств, но еще и потому, что потом на его эксплуатацию, отопление и прочее потребуются средства еще большие, что налогоплательщикам уже совсем будет не по карману, так что даже если сейчас, когда дворец уже был почти достроен, резко остановить его строительство, на этом можно было бы сэкономить колоссальные средства, не менее двадцати миллионов долларов, а если эти двадцать миллионов долларов, к примеру, поделить на находящихся в этом зале пятьдесят человек, то на каждого получалось около четырехсот тысяч долларов, а на эти деньги каждый из них мог бы не только приобрести себе роскошную пятикомнатную квартиру в Петербурге с ванными и джакузи, но и еще купить себе виллу где-нибудь на Гавайях или Карибах…
В этот момент в зале наступила напряженная тишина, будущий депутат же тоже как бы специально замолчал, чтобы выдержать паузу и заставить всех присутствующих сильнее почувствовать, чего их лишает действующий губернатор. И тут сидевшая слева от Маруси пожилая дама в очках вдруг сильно засопела, со свистом втянула воздух и негромко, как бы про себя, пробормотала: «Сволочь!», — но в наступившей тишине это слово прозвучало довольно отчетливо, так что все его хорошо расслышали и почти одновременно заерзали на стульях и повернулись в ее сторону.
Ну не стоит, не надо так расстраиваться, успокоил ее выступавший, в конце концов, все еще можно было поправить, как только он станет депутатом, он сразу же подаст депутатский запрос, и строительство Дворца тогда можно будет если не остановить, то, по крайней мере, можно будет отключить от него отопление, электричество и воду, в конце концов, Дворец вообще можно было и снести и уже на его фундаменте возвести огромный многоквартирный дом, настоящий небоскреб, фундамент, который был у Дворца, вполне мог его выдержать, он в этом не сомневался. Так что отчаиваться не стоило, не все еще было потеряно, во всяком случае, он не собирался сидеть, сложа руки, потому что надо было хоть что-то делать, чтобы помочь людям, для этого, собственно, он и баллотировался в депутаты.
Тут из зала ему кто-то возразил, что небоскреб строить нельзя, потому что, то ли по указу Петра, то ли из-за какого-то магического заклятья, на этот счет существовала, вроде бы, также и народная примета, а может быть, все это было и не совсем так, но, тем не менее, в Петербурге не должно быть зданий, выше шпиля Адмиралтейства, ибо любое здание, воздвигнутое выше этого шпиля, рано или поздно будет разрушено, что и произошло со шпилем Петропавловки, в который уже неоднократно попадала молния, отчего даже ангел на ней несколько раз загорался, и это происходило до тех пор, пока в 1778 году на нем наконец не догадались установить громоотвод … Нет, кандидат в депутаты этого не знал, первый раз об этом слышал, но он обязательно это примет к сведению, так как для этого, собственно, и встречается с избирателями, чтобы посоветоваться с народом и внести необходимые коррективы в свою предвыборную кампанию, а это он даже прямо сейчас запишет к себе в блокнот, чтобы учесть потом при составлении своего депутатского запроса, тем более, что сам он по образованию микробиолог, специалист по молекулярной биологии, и еще, если честно сказать, не до конца приспособился и не очень хорошо ориентировался в нашем обычном макромире.
А читал ли он «Незнайку на Луне», и помнит ли он, как тяжело пришлось коротышам в новой, чуждой для них обстановке — этот вопрос совершенно неожиданно задал один из сидевших за столом, чьего имени Маруся не знала, да к тому же, он и сидел к ней спиной, так что его лица она не видела. Да, конечно, «Незнайку на Луне» он читал, более того, это была его настольная книга, которую он и сейчас периодически перечитывал, и опыт коротышей он, конечно же, тоже обязательно учтет, когда станет депутатом. После этого вопроса возникшее было недавно напряжение как-то мгновенно улетучилось и все присутствующие, включая кандидата в депутаты, заулыбались и снова почувствовали себя свободно и раскованно…
Следующим слово взял Блумберг. Он только что вошел в зал, был весь красный и еще не успел отдышаться, так как всего несколько часов назад прилетел из Москвы и по дороге из аэропорта из-за пурги попал в жуткую пробку, почему и опоздал на презентацию почти на час, этим, видимо, можно было объяснить и то, что речь кандидата в депутаты немного затянулась. Блумберг извинился перед собравшимися за свое опоздание и сразу же, отбросив церемонии, решил подойти, как говорил Ги де Мопассан, «ближе к телу», то есть представить собравшимся всех авторов серии, которые, конечно же, всем и так были хорошо известны, поэтому в особом представлении не нуждались, но он все-таки не мог отказать себе в этой приятной условности, тем более, что идею серии он вынашивал уже очень давно, можно сказать, с юности, то есть еще лет за двадцать до наступления девяностых. Самого себя он считал, кстати, сыном семидесятых, человеком семидесятых, тех самых семидесятых, которые теперь в такой моде и которым они, кстати, недавно в своем издательстве посвятили специальный альбом, который случайно лежал перед ним на столе, и который он тут же продемонстрировал собравшимся, открыв его на странице, заранее заложенной закладкой: «Вот он, настоящий герой семидесятых!» — ткнул он пальцем в фотографию, на которой был изображен какой-то прыщавый пэтэушник в клешах, с сигаретой в зубах и с длинными грязными выкрашенными в соломенный цвет волосами.
Но, несмотря на то, что Блумберг считал себя человеком семидесятых, это вовсе не мешало ему оценить и тех, кто по-настоящему сумел раскрыть себя в девяностые годы, то есть всех тех «классиков девяностых», которых он сегодня собирался представить собравшимся. Он не сомневался в том, что когда-нибудь, лет этак через двадцать, и на девяностые годы придет настоящая мода, тогда и книги их серии, которые и сейчас, он был уверен, не залежатся долго на прилавках, но тогда, лет через двадцать, они вообще резко поднимутся в цене и будут стоить бешеные бабки, причем особой ценностью будет обладать именно полное собрание книг этой серии, как это обычно и бывает у истинных коллекционеров. Таким образом, получалось, что каждый, кто уже сейчас купит все книги, которые уже вышли в этой серии, и потом будет последовательно покупать каждую новую, не пропуская ни одной, через двадцать лет сможет на этом обогатиться и даже стать миллионером.
Можно, конечно, по-разному себе представлять настоящего героя девяностых, потому что его образ еще окончательно не оформился, не сложился, не прошел через горнило времени, не стал еще таким четким и ясным, как герой семидесятых, — Блумберг опять ткнул пальцем в портрет прыщавого подростка с крашеными волосами — некоторые представляют себе этого героя в виде ночной бабочки, путаны, некоторые — даже в виде киллера, наемного убийцы, но лично он представляет себе его не иначе как в виде писателя, творца, каким бы наивным, даже, может быть, смешным ни показалось кому-нибудь сейчас это предположение, но ведь именно наивные и чистые люди в первую очередь часто и творят историю, а эту наивность и чистоту, прежде всего, он и постарался сохранить в своей душе с самой юности, и она помогает ему жить в наше, такое непростое, время.
Пусть его предположение кажется кому-то сегодня невероятным, но разве кто-нибудь мог себе представить в семидесятые, что лицо этого времени в наши дни предстанет нам таким, каким оно предстает нам со страниц этой книги, — он опять открыл свой альбом, где на сей раз уже на весь разворот была размещена фотография голого женского зада — ведь тогда были и другие варианты: рабочие, крестьяне, доярки, покорители целины, полярники, — и многие тогда даже представить себе не могли, что подлинное лицо этого времени всего через каких-то двадцать лет примет совсем иные очертания.
Таким образом, он, взвалив на себя тяжкое бремя издателя этой серии, попытался не только представить все лучшее, что было создано в российской литературе в девяностые годы, но и создать своеобразный коллективный портрет нашего современника, для чего, собственно, ему и понадобились эти многочисленные исторические отсылки и экскурсы в прошлое в лице Толстого, Сервантеса, маркиза де Сада и других, ибо любой портрет без перспективы всегда выглядит слишком плоским и одномерным, а с точки зрения перспективы конец прошлого столетия ему представлялся не иначе как в образе Толстого, тогда как девяностые годы восемнадцатого века ему уже рисовались в образе маркиза де Сада, хотя, безусловно, это было его субъективное мнение, и он не собирался его никому навязывать, а вот дальше, в том, что касалось конца шестнадцатого века, ему сейчас, так сразу без подготовки, было трудно сказать что-либо определенное, так как он боялся ошибиться и что-нибудь напутать, то есть, этот период времени в данный момент терялся для него во мраке, как, впрочем, обычно и бывает на самых выразительных живописных полотнах с глубоким и темным фоном, а именно такую картину, картину целой эпохи человеческой истории, ему бы и хотелось воссоздать. Правда он еще сам толком не разобрался, в какой последовательности должны выходить книги этой серии, поэтому пока они просто выходят в одинаковых черных обложках, без каких-либо номеров и иных знаков отличия, просто по мере поступления готовых рукописей и макетов, работа над которыми сейчас вовсю идет в их дружной, сплоченной редакции, сотрудникам которой он, пользуясь случаем, хотел бы выразить особую признательность, так как без их беззаветного и бескорыстного труда большинство этих книг просто не смогло бы увидеть свет, причем слово «бескорыстный» в наши дни, к сожалению, имеет не только иносказательный, но и самый прямой смысл, потому что многие из этих сотрудников, подобно большинству наших сограждан, увы, действительно месяцами не получают зарплату, да и он сам из-за финансовых затруднений вынужден был недавно отменить запланированную ранее и столь необходимую для их бизнеса поездку в Марокко. И вообще, если бы не составитель серии Леонид Иосифович Торопыгин, который нашел спонсора, пожелавшего остаться инкогнито, то этот проект и вовсе мог бы никогда не состояться, поэтому Леониду Иосифовичу он тоже выражал отдельную благодарность, жаль, что тот по состоянию здоровья не смог прибыть лично на презентацию из Москвы, где, буквально несколько часов назад, он с ним встречался, и Леонид Иосифович велел всем кланяться и передавал пламенный привет. Приятную же обязанность представить авторов серии он поэтому вынужден взять на себя, к чему он теперь и переходит, а так как он вообще не любил все эти церемонии и всякие слова вроде «лауреат», «член Союза», «ветеран сцены» и т.п., которые зачастую вообще не имеют никакого отношения к культуре и подлинной значимости человека в ней, так что пусть на него не обижаются, но представлять авторов серии он будет не в порядке их заслуг, возраста или еще какой-то особым образом оговоренной или предусмотренной последовательности, а просто так, как они случайно расселись за этим столом, по часовой стрелке, начиная с первого, кто оказался от него по левую руку…
После этих слов Блумберг наконец-то перешел к представлению всех, кто сидел за столом, причем, как Маруся заметила, большинство из них, процентов на девяносто, были мужчины в возрасте от пятидесяти до семидесяти-семидесяти пяти лет, так что эта блядь с шестого канала была среди них не только самой молодой, но и одной из немногих представительниц слабого пола. Маруся с некоторым интересом все-таки наблюдала за этой процедурой, так как ее по-прежнему почему-то все еще занимал вопрос, кто из них работает шофером такси.
По ходу представления она насчитала по крайней мере еще двух «русских Маркесов», одного «русского Борхеса», одного Кафку, одного Томаса Манна, а также Хемингуэя и Камю, и только трое были охарактеризованы как «абсолютно самобытные и неподражаемые мастера пера», кажется, назывались еще имена: Стефана Цвейга, Голсуорси, Шекспира, Беккета, Джойса, Ромена Роллана, Сэллинджера, Агаты Кристи, Пруста и Барбары Картленд,- но уже в менее категоричной и определенной форме, на абсолютное тождество между ними и теми, кто сидел за столом, уже указано не было. Особо Блумберг почему-то задержался на фигуре писателя Саидова, которого он назвал наиболее вероятным претендентом на Нобелевскую премию из числа наших соотечественников в ближайшие десять-пятнадцать лет. По его мнению, у Саидова для этого были все данные, хотя бы потому, что он был родом из Казахстана, где такие бескрайние степи и обдуваемые всеми ветрами селения, которые он описывает в своих произведениях и которые они недавно вместе с ним видели по телевизору в документальном фильме про приговоренного к смерти убийцу с восточной фамилией, начинавшейся, кажется, на букву «Д» — этого он точно уже не помнил — но ему еще в тюрьме женщина-следователь передала пистолет… Д. был родом из тех же мест, что и Саидов, так что пейзажи в фильме были точно такие же, как в книгах Саидова.
Маруся тоже видела этот фильм, правда, не целиком, а так, между делом. Там все время показывали каких-то запредельных уродов: сначала сам Д., жуткий кретин с квадратной головой, лихорадочно бегал, подпрыгивая и делая упражнения из восточных единоборств, по маленькой тесной одиночке, все это было, кажется, заснято скрытой камерой, потом жирный следователь с портфельчиком долго ходил по тюремному коридору и философствовал, является ли Д., который замочил, кажется, что-то около пяти человек, преступником, или же он жертва общества, так как вырос без отца на фоне тех самых унылых пейзажей, о которых говорил Блумберг, а больше всего следователя занимал вопрос, любила ли его та женщина-следователь, которая передала ему в камеру пистолет, в результате чего было тяжело ранено около трех охранников, а сам Д. на какое-то время скрылся из тюрьмы, но потом его снова поймали, и он опять лихорадочно ходил по своей тесной камере, подпрыгивая и делая финты руками и ногами… Кроме того, Маруся отчетливо запомнила, как еще две какие-то жирные бабы, сидя на кухне, тоже обсуждали между собой все эти проблемы, но какое отношение они имели к Д. и ко всему этому делу, Маруся так и не поняла — вроде бы, одна из них была его первая жена… Завершался же фильм кадрами, в которых женщина-следователь, передавшая Д. пистолет, в телогрейке, стоя в толпе заключенных в зале тюремного клуба, смахивала слезу под звуки песни «Музыка нас с тобой связала», а жирный следователь с портфельчиком в руке под ту же мелодию, но уже почему-то грохотавшую во всю мощь, уходил по тюремному коридору вдаль.
Что касается творчества Саидова, то Блумберг, как он вынужден был признаться, все же так и не смог дочитать до конца ни одной его книги, так как они представлялись ему чересчур сложно написанными и слегка затянутыми, что, впрочем, не имело никакого значения, так как очень многих из писателей, имена которых сегодня он назвал и которые уже были удостоены Нобелевской премии, он также никогда не мог дочитать до конца, а некоторых, как, например, Гомера, он даже вообще читать не начинал, потому что его всегда пугал один вид его книг. Книга же, по его мнению, не должна быть очень большой, потому что в противном случае, хотим мы этого или нет, она просто может отпугнуть читателя и ее никто никогда не купит, поэтому формат книги, ее сравнительно небольшой объем был пока единственным четко выработанным критерием отбора для их серии… Имя же «русского Фолкнера», который по совместительству работал шофером такси, так и не прозвучало, видимо, он просто отсутствовал на презентации, а, может быть, Блумберг случайно определил его как-то иначе, назвал «русским Камю», например, а Маруся этого не заметила, потому что уже успела позабыть, как точно звучит его настоящее имя, рыться же снова в куче анонсов и что-то там искать у нее не было никакого желания, уж больно она устала, к тому же это было совершенно бесполезно, так как она успела уже позабыть имена большинства сидящих за столом писателей, которых ей только что представили, из числа тех, кого она раньше никогда не видела, и уж совсем она не помнила, что говорили сами писатели, какие отрывки из своих произведений они читали, все их голоса постепенно слились в один бессмысленный гул, в какое-то мгновение Маруся даже почувствовала, что засыпает, чтобы отогнать от себя сон, она попыталась взглянуть на происходящее совершенно под другим углом.
Пожалуй, Костя был в чем-то прав, если отвлечься от того, что говорили все эти люди, каждый из них был действительно похож на какое-нибудь животное, например, у писателя, который говорил о том, что Сервантес и Данте и сегодня не утратили ни грамма своей актуальности, были очень короткие ноги и длинная шея, отчего он отчетливо напоминал Марусе жирафа. Пожалуй, это был самый яркий животный тип из числа тех, что присутствовали на этом вечере, большинство остальных почему-то напоминали Марусе мышей — такие у них у всех были стертые бесцветные лица, особенно у женщин — огромная стая серых мышей…
Маруся вспомнила Алексея Б., во всем его облике было что-то овечье, такое тупое овечье упрямство, а про Светика так даже однажды и написали: «панк с тупым овечьим выражением лица«,- заметка с такими словами появилась в «Смене» после того, как он пытался вырезать в Публичной библиотеке из книги портрет Марлен Дитрих, но заснул с картинкой в руках. Сам Костя напоминал Марусе птицу, в профиль у него был довольно большой клювообразный нос, а сама себе Маруся все больше напоминала свинью, огромную жирную свинью, она просто не могла глядеть на себя в зеркало без отвращения, особенно в последнее время…
И все-таки больше всего тогда, на презентации, ей запомнилось выступление именно женщины, может быть, потому что она была едва ли не единственной женщиной на этом вечере, которой предоставили слово — блядь с телевидения, к счастью, весь вечер просидела молча, она, кажется, вообще присутствовала там в качестве гостя — а может быть, потому, что это выступление было последним, и Маруся бессознательно слушала его с облегчением, наконец-то стряхнув с себя одолевавшую ее весь вечер сонливость.
Кажется, эту бабу звали Нина Пузанова, ей было уже далеко за пятьдесят, и внешне она тоже напоминала мышь или даже моль, бесцветную моль. Она была автором повести «Пермь — закрытый город», которую уже опубликовали в «Новом мире», она даже вошла в шорт-лист Букера за прошлый год и теперь готовилась к печати в серии Блумберга. Сама она тоже была родом из Перми, с этого она, собственно, и начала свое выступление.
Какой у них все-таки замечательный город, Пермь, и какие там живут люди, пермяки, одним словом, и пусть у них, в отличие от жителей Петербурга, в застойные времена не было колбасы и в воздухе там очень много сероводорода, отчего у всех у них слегка припухли железки, а также все они, вследствие повышенного радиационного фона, может быть, чуточку уже слегка мутировали, но все равно, они всегда рады видеть у себя гостей, всегда накроют им стол, потому что они поступали так всегда, и в застойные времена, когда у них совсем не было колбасы, и теперь, когда у них появилась не только колбаса, но еще много-много чего, включая сникерсы, макдональдсы и гамбургеры, потому что, несмотря на то, что Пермь очень долго была закрытым городом из-за чересчур развитой оборонной промышленности, все равно, люди там всегда были очень открытые и радушные, что могут подтвердить многие из присутствующих здесь писателей, которые уже успели побывать у нее в Перми в гостях.
Вместе с тем, писателю там жить совсем непросто, особенно теперь, и этим Пермь очень сильно отличается и от Москвы, и от Петербурга, потому что Пермь — город, все-таки, очень небольшой и там все, абсолютно все, друг друга знают и даже узнают на улицах, и отчасти, это произошло из-за его закрытости, из-за которой там все привыкли больше тусоваться между собой, поэтому она, когда пишет, то всегда старается всячески изменить внешность своих персонажей: блондинов она делает брюнетами, высоких — низкими, толстых — худыми,- но как она ни изощряется, даже локоть меняет на колено или ухо на нос, все напрасно, потому что пермяки — люди от природы очень догадливые и сообразительные, так вот, они все равно всегда не только себя, но и друг друга в ее персонажах узнают, и поэтому все вместе часто сообща собираются и читают ее произведения. Иногда это, конечно, бывает очень весело, и раньше это еще куда ни шло, все ей как-то сходило с рук, а теперь, когда времена изменились, то за это ее могут ведь и убить, так как многие, как бы хорошо она о них ни писала, все равно почему-то обижаются, а ведь теперь в Перми появились и «новые русские», и киллеры и еще бог знает кто, так что быть писателем в Перми теперь стало очень опасно, поэтому она, когда приезжает в Москву или Петербург, просто отдыхает душой, но на родину ее, конечно, все равно всегда тянет.
А совсем недавно ей позвонил один такой «новый русский», здоровенный бритый наголо двухметрового роста тип, который почему-то узнал себя в кудрявом тощем карлике, почти гномике, и заявил ей по телефону, что после того, как она его так изобразила, ей, суке, так он ее назвал, осталось жить не больше двух недель, причем одна неделя из этого срока к моменту ее выступления здесь, на презентации, уже истекла, и она не знает теперь, возвращаться ей к себе домой или еще сначала заехать в Москву и немного подождать, но ее ведь и в Москве могут найти.
В заключение она прочитала небольшой отрывок из своей старой повести, в основу которой, опять-таки, был положен реальный факт из жизни — история девочки, которая для того, чтобы попасть в пионерском лагере в старшую группу, взяла и прибавила себе три года, то есть вместо двенадцати сказала, что ей пятнадцать, ведь у нее тогда не было еще даже месячных, так что можно себе представить, каково было этой двенадцатилетней девчонке среди пятнадцатилетних, ну а потом это как-то раскрылось, потому что, когда все стали пить шампанское, эта девочка стала блевать, точнее тогда, сразу, это не раскрылось, а раскрылось потом, когда она описала все это в своей повести, и хотя она поменяла Галю на Валю, блондинку на брюнетку, полненькую на худую, эта девочка, точнее, уже взрослая женщина — потому что, когда вышла эта повесть, ей было уже около тридцати — все равно себя в этой девочке узнала, поняла, что эта повесть о ней, и хотя они с ней были лучшими подругами, после этого она с ней поссорилась и не разговаривала в течение двадцати пяти лет, так как не могла простить ей предательства, того, что она ее выдала, хотя и много лет спустя.
И только совсем недавно, через двадцать пять лет после их размолвки, она снова к ней пришла, принесла бутылку коньяку, они с ней выпили, помирились и теперь, на сей раз, она уже не блевала, да она бы и от водки, наверное, не блевала, потому что Пузанова знала, ведь в Перми все все друг про друга знают, что она в последние годы здорово квасила и закладывала за воротник…
***
Не только Маруся, у мамы почему-то постоянно кто-то просил в долг денег, и она, как правило, их всем, кроме Маруси, давала.
Однажды Маруся застала у мамы в гостях ее троюродную сестру Любовь Ивановну, которой срочно понадобились деньги, и она просила у мамы в долг три тысячи рублей. Любовь Ивановна работала во французской гимназии учительницей, преподавала французский, очень интеллигентная, хрупкого сложения, у нее дома была огромная библиотека, и Маруся в детстве всякий раз, когда приходила к ней, правда, это случалось не очень часто, брала у нее что-нибудь почитать. Она была лет на десять младше мамы, и ее сын Петя учился в этой же гимназии в предпоследнем классе, в этом году они по обмену уже ездили во Францию и, по условиям этого обмена, две недели жили в Париже во французской семье, а потом уже следующие две недели французские дети должны были жить в семьях тех, кто жил у них.
Их Петя как раз недавно вернулся из Парижа, там он жил в арабской семье, а теперь у них дома жил арабский мальчик, Мейди, который, по ее словам, был очень милый и безобидный, такой темненький и кругленький, достаточно деликатного сложения, и он был даже на год младше ее Пети. Они его очень хорошо принимали, Любовь Ивановна каждый день даже пекла ему пирожки и делала всякие салатики, что обычно она позволяла себе только по праздникам.
Однако буквально за два дня до своего отбытия в Париж Мейди, совершенно неожиданно для всей их семьи, которая состояла из ее старенькой мамы Ульяны Семеновны, ее и Пети, предъявил им счет, который он, оказывается, вел на протяжении всего этого времени, записывая в него все их расходы и деньги, которые они на него за это время потратили. Он действительно, сидя за столом, часто, как бы невзначай, интересовался, а сколько у них стоит это, то, отчего казался еще более милым и любознательным мальчишкой, каких она на своем веку в их школе, а теперь гимназии, повидала множество. Однако в этом счете было с точностью до копейки подсчитано, что сумма, которую потратили в Париже родители Мейди на Петю, превышает ту сумму, которую потратили на него здесь, как минимум на пятсот франков, при этом он совершенно не хотел учитывать, что в Париже все продукты и товары стоили гораздо дороже, чем у нас здесь, в Петербурге, даже Петя говорил Любови Ивановне, что она напрасно так старается, потому что в Париже никаких пирожков или салатиков ему специально не делали.
Любовь Ивановна все это попыталась объяснить Мейди, но тот не желал ничего слушать. Если до его отъезда, а он должен был улетать уже послезавтра, Любовь Ивановна не возместит ему разницу в пятьсот франков, а в то время по курсу это было примерно три тысячи рублей, то он пойдет в школу и пожалуется их директору, что он жил в настоящей расистской, даже более того, в фашистской семье, в которой все это время его запугивали, третировали, называли грязной арабской свиньей, в общем, всячески давали ему понять, что он является представителем низшей расы. Сами же они, как истинные арийцы и поклонники фюрера — то есть она, ее старая мама Ульяна Семеновна и Петя — каждое утро, стоило им только пробудиться, строем выходили на кухню и, вскинув руки в фашистском приветствии, дружно хором кричали «Хайль Гитлер!», причем она, Любовь Ивановна, первой выкрикивала «Зик!», согнув локоть, а Петя и Ульяна Семеновна в ответ вскидывали руки и орали «Хайль!», — Мейди даже написал большое письмо директору гимназии, где все это подробно описал — и без этого они не вставали, не садились завтракать, обедать и ужинать, то есть в их семье это приветствие было чем-то вроде «Отче наш», так у них было принято…
Ни на какие уговоры и просьбы он никак не реагировал, деньги должны были быть предоставлены точно и в срок. Навело же на эту дикую идею его, видимо, то, что Петя, всякий раз, когда выводил их таксу Еву на прогулку, действительно, кричал эти мерзкие слова «Хайль Гитлер!», но это у него просто была такая шутка, Любовь Ивановна уже неоднократно предупреждала его, чтобы он этого не делал, так как соседи по лестничной площадке могли услышать, но Ева уже так привыкла к этим словам, что на прогулку без них не выходила. Мама Маруси была категорически против того, чтобы Любовь Ивановна давала Мейди деньги, но Любовь Ивановна умоляла ее дать ей в долг, потому что на свою маленькую зарплату учительницы французского она не могла осилить такую сумму, а связываться с Мейди, французами, подставлять в глазах директора себя, Петю и его будущее ей очень не хотелось.
В конце концов, мама вынуждена была уступить и дала ей деньги. Но уже в аэропорту Мейди все равно пожаловался завучу, и та дала ему еще двести рублей из своего кармана, так как тоже не хотела все это дело раздувать, к тому же, в их гимназии это был первый опыт подобного рода обмена…
А на вид такой симпатичный мальчик и такой начитанный, Любовь Ивановна даже видела у него на столе книгу Маккиавелли «Государь», которую он привез с собой из Парижа…
***
В последнее время Маруся почти не встречала Светика, потому что в Питере Светик бывал редко, в основном он тусовался в Москве. Там у людей гораздо больше бабок, он, например, мог выйти вечером на Арбат и там поаскать, и ему давали, причем не рубль или два, а по десять долларов, иногда и больше. В Москве он жил у разных людей, у хозяина художественной галереи по прозвищу Чуваш, который и на самом деле был чувашем, очень богатым, он вообще Светика полностью содержал, оплачивал ему все его капризы, дал ему мобильник, даже квартиру снял в центре Москвы. Чуваш устроил выставку работ Светика в самом центре Москвы, на Манежной площади — там были выставлены огромные полотна, на которых Светик был изображен в разных образах: Орловой, Гитлера, Королевича, Пугачевой, Людовика XIV, Ильи Муромца и прочих исторических личностей. Эти работы увидел один богатый американец и захотел их купить, Светик долго торговался, в конце концов, они остановились на пяти тысячах долларов, но работы должны были еще какое-то время повисеть на площади для всеобщего обозрения, наконец на изображении Светика в образе Гитлера кто-то написал черной краской «вонючий мудак», хотя непонятно, как это было возможно, потому что работы были установлены довольно высоко, на высоте двух метров над землей, и были ярко освещены специальными прожекторами. Тогда Чуваш сказал, что работы пора снимать, но Светик должен был отдать их американцу, потому что деньги он уже получил, однако тут объявился какой-то бизнесмен из Сибири и предложил ему за них шесть тысяч долларов, Светик опять согласился и эти деньги тоже получил, но, в конце концов, эти работы забрал сам Светик, он нанял машину, поздно ночью рабочие сняли все эти работы и увезли в неизвестном направлении, так как Светику все же было жалко продавать свои работы, тем более отдавать их в Америку, ведь это, как-никак, было наше национальное достояние. Чуваш, в свою очередь, требовал эти работы себе, потому что он тоже заплатил Светику, на что Светик ему заявил, что автор работ — он, и они все равно являются его неотъемлемой собственностью. В конце концов, Чуваш вообще перестал давать Светику деньги, потому что Светик его неоднократно кидал, и ему это надоело. Тогда Светик просто залез к нему в сейф и взял оттуда восемь тысяч рублей, потому что ему нужны были деньги, а взять их было негде, а Чуваш стал орать, что Светик его обокрал, но Светик не обратил на это никакого внимания.
Он ушел от Чуваша и долгое время жил у разных людей — у художника Хладковского, у владельца мебельного салона Кармелюка, этот Кармелюк тоже был очень богатым человеком, и Светик даже посвятил ему стихотворение, в котором описал свое с ним знакомство, которое произошло на открытии выставки в Русском музее — Кармелюк был там в золотых очках, шелковом галстуке, и его «тонкое холеное лицо» сразу же бросилось Светику в глаза. Кармелюк очень любил вращаться в богемных кругах, у него там было много знакомых, он даже красил волосы синькой, и они у него были цвета морской волны, вернее, остатки волос, потому что он начинал лысеть. А потом Светик снова отправился на одну тусовку, в Москве открывалось модное кафе «Пигмалион», открывал его Чуваш, и Светик никак не мог отказать себе в удовольствии пойти туда, но закончилось это посещение достаточно печально, Светик там сильно напился, а потом его избили, и наутро, хотя он не мог ничего вспомнить точно, все его тело оказалось покрытым ссадинами и синяками, а большой палец на правой ноге был просто отдавлен, ноготь почернел и вздулся — Светик уверял, что по этой его ноге Чуваш проехал на своем мерседесе. Но Светик особенно не унывал, он говорил, что это жизнь, что она его калечит, а потом сама и лечит, так что здесь ничего сделать нельзя.
Его отец оставил их с мамой, когда Светик был еще маленьким, он уехал куда-то на Алтай и там жил, Светик один раз даже его навестил, он уже был на инвалидности, а его жена, моложе его на двадцать лет, тоже была инвалидом. Светика отправили в армию, его мама специально сделала это в воспитательных целях, потому что при желании она спокойно могла его от этого избавить — она занимала пост первого секретаря в Петроградском райкоме партии, и у нее были связи. Светика отправили служить в войска охраны Кремля, там он организовал из солдат театральный кружок, и на репетициях переодевал их в женские платья, а сам переодевался в Марлен Дитрих. В конце концов их в таком виде застукал замполит, сперва он принял Светика за настоящую проститутку и завопил: «А эту блядь кто сюда пустил?», — но потом все стало ясно, и Светика отправили в психушку, а театральный кружок запретили. Но образ Марлен Дитрих навсегда остался для Светика любимым, потому что она была похожа на его маму, которая в молодости была настоящей красавицей. Потом Светику все же удалось найти бабки, и он уехал в Питер, где у него была квартира на Петроградской стороне, он продолжал торчать на герыче, и ему постоянно нужны были большие деньги, поэтому он вскоре был вынужден свою квартиру продать. Мама стала требовать, чтобы он лечился от наркомании, потому что ни к чему хорошему увлечение героином не могло привести, но Светик не собирался, он, конечно, очень любил свою маму, ведь это была его мать, и он любил ее больше всего на свете, но иногда она его ужасно раздражала, и он в душе даже желал, чтобы она умерла, уж тогда-то он станет полноправным хозяином жизни и квартиры, он сможет все в этой квартире переставить по собственному вкусу, а так мама все время его слишком опекала, и ему приходилось подчиняться.
Когда он приехал из Москвы рано утром и поймал машину, в этой машине сидела старушка, размалеванная и раскрашенная, прямо как клоун, и она ему вдруг предсказала всю его судьбу, даже сообщила, что в этом году с ним произойдут очень важные и значительные события, а также, что в этом году умрет его мать. Светик поселился у своего знакомого на Владимирском проспекте, они вместе торчали на герыче, и однажды Светик пошел на Грибанал, взял дури, пошел обратно, и когда проходил мимо Кузнечного рынка, к нему внезапно подошел мент и пригласил его пройти, короче, стал его обыскивать. Светик ужасно испугался, у него руки затряслись, хотя он и был еще под кайфом, но понял, что ничего хорошего теперь с ним не будет. Мент нашел у него в кармане белый порошок, составили протокол, все записали, и с ним стал работать следователь, Аслан Афиногенов, Светик называл его Слон Нафигов, он требовал, чтобы Светик назвал ему всех дилеров, всех торговцев, всех заложил, а Светик не хотел никого закладывать, потому что если бы об этом кто-нибудь узнал, с ним бы обошлись не очень ласково, отрубили бы руку или даже ногу, как обычно делают со стукачами в этой среде. Со Светика взяли подписку о невыезде, и он уже не мог уезжать в Москву, а должен был оставаться в Питере до суда, суд был назначен через два месяца. Тогда Светик решил бросить свое увлечение герычем, взять себя в руки и вернуться к нормальной жизни, ему пришлось пройти через страшные муки, даже вспоминал он об этом неохотно, несколько дней он пролежал дома пластом, его корежило и выворачивало наизнанку, потом постепенно стал выходить гулять, просто чтобы отвлечься, ходил на барахолки, покупал там старые журналы и книги, даже устроился работать в типографию, к своему знакомому Мише. Миша был азербайджанец, типография находилась в огромном старом полуразрушенном здании у Обводного канала, и там у Светика была своя мастерская, он приходил туда покурить марихуаны или же уколоться кетамином, потому что он хотя и слез с иглы и не употреблял больше герыча, но иногда ему хотелось погаллюцинировать.
***
Костя считал, что, как среди растений в лесу невозможно встретить какое-нибудь крупное дерево без глубоко ушедших в землю цепких корней, так и в человеческом мире невозможно найти значительного человека, чье положение в обществе не подкреплялось бы разветвленными, чаще всего родственными и семейными, связями или же крупным состоянием. Предполагать же, что в этом мире можно опереться на талант или гениальность, могут только полные кретины или циничные демагоги. Вместе с тем, всей этой сытой толпе чьих-то сыновей, дочерей, мужей, жен, любовников и любовниц, составляющих костяк современной культуры, часто даже в самые благополучные времена бывал жизненно важен какой-нибудь гений, фетиш, дабы не лишать последней надежды на успех тех, кто находится внизу, поддерживать в них веру в миф о Золушке и сказочном принце, и тем самым оградить свое благополучное существование от неожиданных потрясений и посягательств голодной и вытесненной на периферию жизни толпы.
Поэтому именно среди звезд первой величины в современной культуре чаще всего можно встретить людей совсем случайных, с самого дна, хотя их, этих звезд, единицы, а остальная многотысячная сытая толпа, укрывшись за их нарочито утрированным, ослепляющим и отвлекающим внимание сиянием, спокойно обделывает свои дела, так вести себя их заставляет все тот же животный инстинкт самосохранения. Именно поэтому сам Костя испытывал такое глубокое презрение ко всей этой «звездности» и «гениальности», и предпочитал часами неподвижно лежать в своей комнате, сосредоточенно вглядываясь в незримую даль своего духовного пути, во всяком случае, он не желал быть игрушкой ни в чьих руках.
А у нее, у Маруси, видимо, совсем иное предназначение, ей выпало быть Золушкой, попавшей на суетный человеческий бал, так уж получилось, и с этим ничего не поделаешь, более того, он, Костя, возлагал на нее такие же надежды, как в свое время Достоевский на Алешу Карамазова, который потом тоже должен был отправиться в мир с особой миссией, главное, чтобы она во всем слушалась его, так как здесь, в этой комнате, вдали от людей, его внутренний взор был абсолютно не замутнен, и он чувствовал себя капитаном, ведущим корабль сквозь бурное море. Ибо в жизни, как и в море, нужно уметь лавировать между волн, учитывать, куда и с какой силой дует ветер, главное — не сбиться и не свернуть с раз избранного пути. В конце концов, даже если окружающие пытаются тебя использовать, ты все равно можешь сам попытаться использовать их, особенно если твоя цель им не ясна, а ты сам их прекрасно понимаешь…
А настоящая цель открыта только тому, в ком есть достаточно безумия, чтобы в нее поверить, тому, кто способен сделать крупную ставку, не имея для этого никаких предпосылок, короче, тому, кто способен истребить в себе обывательский здравый смысл и идти путем чистой веры, не отступая ни на шаг, даже если весь мир против тебя: ведь обычные люди, подчиняясь здравому смыслу, на самом деле, пребывают в иллюзорном мире мнений, о котором писал еще древнегреческий философ Парменид, и только избранным открывается подлинный мир сущностей…
Человек здравого смысла подобен человеку с плохим зрением, к тому же пребывающему в темноте, от которого поэтому полностью скрыты настоящие горизонты жизни. На протяжении всего этого столетия не было и десяти лет, которые можно было бы уложить в рамки здравого смысла, и это если говорить об общественной истории, а неурядицы личной жизни оставить за скобками.
Где теперь все эти добропорядочные обыватели, рабочие, шахтеры, врачи, учителя и ученые, которые двадцать лет назад назидательно грозили ему пальцем, когда он, Костя, покинул их уютную обывательскую гавань и отправился в бурное открытое море, когда он выбросил на помойку свой диплом о высшем образовании и приступил к работе санитаром, выносил трупы в этой вонючей больнице, названной в честь этой вонючей революции, где теперь их курорты, уютные квартирки, пенсии и обеспеченная старость, которую им когда-то обещали? Их утлые суденышки тоже теперь ветром вынесло в бушующее море, но они оказались не готовы к плаванию в открытом море и благополучно идут на дно.
Прошедшие два десятилетия окончательно подтвердили его, костину, правоту — только безумие одиночки, а не здравый смысл толпы, адекватно соответствует иррациональной природе человеческой жизни.
Костя считал, что индивидуальность должна проявить себя через отклонение от общепринятого, и если ты родился слишком правильным и положительным, и тебе не хватает спонтанной непосредственности в нарушении норм, значит, тебе самому нужно долго и упорно воспитывать в себе необходимость отклонения, благодаря которому он, Костя, теперь так удачно вписался в жизнь. А Костя считал, что сам он тоже родился слишком правильным и положительным, он всегда с возмущением показывал Марусе свои детские фотографии, с которых глядел крошечный светловолосый мальчик с большим бантом на шее и огромными голубыми глазами: «Вот таким идиотом я был!». Поэтому ему приходилось очень много работать над собой.
К примеру, в старших классах школы, где он учился и где был на очень хорошем счету, как дисциплинированный и способный ученик, он по утрам, приближаясь к подъезду школы, несколько раз усилием воли заставлял себя проходить мимо него и, таким образом, прогуливал занятия, хотя ему этого совсем не хотелось. Он повторял этот эксперимент несколько раз, пока его, наконец, не вызвали на педсовет.
На таком же хорошем счету был он и у учительницы литературы, которая всегда отмечала его сочинения, часто зачитывая их всему классу и ставя ему за них исключительно одни «пятерки», и так продолжалось до тех пор, пока в одном из сочинений, кажется, по Горькому, написанному Костей с обычным блеском, учительница с изумлением не обнаружила, что одно, но ключевое, слово «мать» написано почему-то вверх ногами. Она выразила Косте свое недоумение, однако в следующем сочинении таких слов было уже несколько, а потом Костя стал сдавать сочинения, написанные вообще без знаков препинания, и с грубейшими, откровенно нарочитыми грамматическими ошибками. Теперь уже в школу вызвали его родителей, и Костю едва не отчислили…
А потом, уже при поступлении в Университет, Костя усилием воли заставил себя встать и уйти с последнего экзамена, не отвечая на вопрос, потому что он хотел, чтобы в результате его забрали в армию, куда его почему-то в то время, по его словам, очень тянуло, хотя никому признаться в этом вслух он не мог. Но для того, чтобы так поступить, ему предварительно понадобилось получить на экзаменах все «пятерки» и взять билет для ответа на последнем, чтобы убедиться в том, что он его тоже знает, так как Костя уже тогда считал, что человек не должен доверять никому, и в первую очередь, самому себе, и ему было необходимо знать, что он сам этого действительно хочет…
И пусть теперь у Кости тоже не всегда есть деньги на еду, но он, по крайней мере, не тратил свою жизнь впустую, не прогибался перед начальством, не занимался всякой чепухой, то есть, в сущности, никогда не работал, а половину жизни пролежал на диване, точнее, совершал свое одинокое плавание, переходя из одной гавани в другую, из одной уютной квартиры в другую, где он всегда чувствовал себя только гостем, созерцая все эти мирки, миры и цивилизации как прошлого, так и настоящего, которые теперь вдруг зашатались и рухнули. Правда, на смену одним теперь прибежали другие старательные муравьи, которые опять тупо строят свои жалкие муравейники, но Костя к ним и подавно не имеет никакого отношения, так как он уже очень долго плыл в открытом море, и теперь ему тем более нет никакого смысла возвращаться назад, раз уж он не делал этого раньше, и это только Марусе кажется, что он лежит на диване в своей тесной комнатке, на самом деле, он чувствует себя одиноко стоящим на капитанском мостике, и его взор устремлен в темное звездное небо. Но все это невозможно понять умом, это нужно, скорее, почувствовать, и если Маруся чувствует сейчас, в это мгновение, холодное дыхание одиночества и смерти, то она его понимает…
***
После того, как Маруся ушла от Васи, она не виделась с ним довольно долго, но вдруг он снова позвонил ей и попросил зайти в офис по очень важному и срочному делу. Она согласилась, хотя у Маруси остался неприятный осадок от того периода, когда она работала в Агентстве «Му-му», но против Васи она почему-то не чувствовала никакой злобы, больше всего ее раздражал Гена.
На следующий день в офисе Вася протянул Марусе листок бумаги, на котором было напечатано:
«Герасим утопил Му-му, потому что своей бессловесной сущностью собачка напоминала ему самого себя. Не в силах порвать со своей ставшей невыносимой жизнью, он как бы моделирует в этом поступке акт самоубийства». И далее, с новой строки:
«Герасим по воле барыни сделал то, чего никогда не сделает Василий Тургенев, какие бы указания сверху ни обрушились на его голову. Он никогда не бросит свою программу и своих зрителей!»
— Ну как, ничего? — заметив недоумение Маруси, несколько смущенно сказал Вася, — Это твой ответ на вопрос. Какой из двух тебе больше нравится? Так, на всякий случай, скорей всего, он тебе не понадобится. Просто я решил, что лучше я возьму с собой тебя в качестве победительницы конкурса. Со спонсорами я все улажу. Все-таки ты знаешь язык, и вообще, тебе эта поездка тоже может быть полезна. Ты ведь не была в Каннах? Наш день там будет строиться так. Утром Светка идет на рынок, покупает свежую черешню, клубнику, цветы, а ты просматриваешь всю фестивальную прессу, и когда я просыпаюсь, Светка подает мне кофе и завтрак прямо в постель, а ты рассказываешь мне все статьи, касающиеся фестиваля. Я покажу тебе гостиницы, где можно будет каждое утро брать бесплатно все журналы и газеты, в которых освещается ход фестиваля, ну там сама сориентируешься… А пока тебе надо сфотографироваться, сделать несколько больших цветных фотографий. Я же должен разослать портрет победительницы конкурса всем моим спонсорам — они напечатают твою фотографию в своих рекламных проспектах, так что уж постарайся, дорогая. Деньги я тебе, естественно, верну!
В прошлом году в Канны Вася взял с собой Вадима, юношу с крашеными в рыжий цвет волосами, одетого в розовую рубашку и костюм цвета морской волны. Маруся помнила, как в одной из прошлогодних васиных передач победитель конкурса Вадим Сапенко садился с ним в вертолет, и они летели над синим Средиземным морем, как они сидели в ресторане за столиком на берегу моря: ласковый ветерок раздувал их волосы, а услужливый гарсон подливал им красное вино в высокие тонкие бокалы… На самом деле, Вася познакомился с Вадимом еще задолго до конкурса, в Москве на телевидении, где Вадим был продюсером одной из программ, они с Васей быстро подружились, хотя Светка и говорила Марусе, что не понимает Васю, и что Вадим ужасно противный. После поездки в Канны Вадим еще пару раз появился в офисе, у него были намечены какие-то проекты, которые он хотел реализовать вместе с Васей, но из этого, вроде бы, так ничего и не вышло.
Вася ждал Марусю в буфете Дома кино, он предложил ей водки, и они сели за столик, где за початой бутылкой уже сидела Светка.
— Ну показывай свои фотографии — Вася нервно выхватил снимки у нее из рук и стал их перебирать.
— Я как-то не очень здесь получилась, — неуверенно сказала Маруся.
Теперь фотографии показались ей совсем неудачными, во взгляде, да и во всем ее облике на портрете явственно чувствовалась какая-то дебильность.
— Нет, кайфово, просто класс! — восхищенно приговорил Вася, не переставая хихикать и поглядывая то на Марусю, то на ее изображения, разложенные перед ним на столике. — Это просто класс! Я, пожалуй, выберу эту и эту — мне нужно всего два, а эти ты оставь себе на память! — Вася отложил в сторону два снимка, где Маруся казалась себе особенно опухшей, а взгляд ее был особенно грустным.
— Ну вот, дорогая, теперь твое изображение будет красоваться на рекламных проспектах. Ты, кстати, не забывай всем говорить, что ты домашняя хозяйка.
— Почему это? — вдруг возмутилась Маруся. — Я никакая не домашняя хозяйка, я…
— Дорогая, — Вася примиряюще положил свою руку на руку Марусе, — ну подумай сама, разве плохо быть домашней хозяйкой, которую содержит богатый муж? Вот, например, моя сестра Элка домашняя хозяйка, и очень этим довольна, она ездит в отпуск на Канары или на Багамы, муж покупает ей шубы и платья, что же в этом плохого? Тебе что, это не нравится? Что зазорного ты в этом нашла?
Тут у столика возникли два молодых человека — один все крутился, вертелся, подпрыгивал, просто не в силах стоять спокойно, у него был утиный нос, маленькие бегающие светло-зеленые глазки и небольшой красный причудливо изогнутый ротик, откуда торчали хищно заостренные зубки, второй же, полный, флегматичный юноша с большими светлыми вытаращенными глазами молча стоял, он только один раз улыбнулся, и тогда Маруся обратила внимание на то, что у него все передние зубы белые, а два боковых резца золотые, и в каждый из них вмонтирован крошечный бриллиантик, отчего улыбка получалась просто ослепительная.
— Это мои друзья из «Аргументов и фактов», журналисты, — представил их Вася, — А это Маруся, домашняя хозяйка, приехала к нам из Курска.
— А вы, Маруся, случайно не привезли из Курска нам привет от Александра Руцкого?
— Да, точно, как вы угадали, Маруся как раз собралась передать нам привет от Руцкого, — быстро сказал Вася, не давая Марусе вставить ни слова.
— Ну так что, — снова обратился к ним Вася, — вы даете мою рекламу? Вы должны написать статью размером не меньше пяти тысяч знаков, и на забудьте упомянуть моих спонсоров — шоколадную фирму «Хоббит» и фирму «Posso-шок». А я, когда буду вести репортаж с каннского фестиваля, покажу вашу газету. Вот она — Вася ткнул пальцем в Марусю — победитель моего конкурса, будет читать ее, и мы крупным планом дадим название «Аргументы и факты». Заметано? Кстати, дайте-ка мне вашу замечательную газетку, а то как вы хотите, чтобы я ее показывал?
Флегматичный юноша достал из кармана своей куртки сложенную в несколько раз газету и молча протянул Васе.
— А получше, не мятой, у вас не найдется? Ну ладно, постараюсь не потерять.
***
Марусе и Косте дверь открыл Венечка, воспитанник Родиона Петровича, дебильный юноша с огромными красными губами, большими черными глазами навыкате, он беспокойно, дрожащим от волнения голосом, приветствовал Марусю:
— Здравствуйте, проходите, а то папа уже заждался.
Вы не думайте, что у нас тут такой район опасный, так мы здесь живем. Это ничего, здесь и приличные люди живут. Вот, проходите.
В коридоре коммуналки он провел Марусю к самой последней двери, помог снять полушубок.
— Ах, какая у вас шубка американская. Ну вот вам тапочки, не американские, а наши, русские.
В длинной, вытянутой, как кишка, комнате у стены стоял деревянный стол, покрытый клеенкой, возле него сидела старушка с приплюснутой сверху и снизу головой и дебильным выражением лица. Увидев Марусю, она открыла рот и радостно заулыбалась, и Маруся обратила внимание, что у нее на зубах были надеты железные проволочки, какие носят дети для исправления прикуса. Из-за шкафа, отгораживающего угол комнаты, вышел Родион Петрович, на нем были клетчатые брюки и клетчатая рубашка.
Впервые Маруся увидела Родиона Петровича, как он пел и играл на аккордеоне в Екатерининском садике. На нем был рыжий парик, длинное черное пальто, похожее на шинель, у него были большие выразительные голубые глаза, обрамленные длинными рыжими ресницами и мощная волевая челюсть. Вокруг него собралась целая толпа старушек, как-то так получилось, что он сам первым подошел к Марусе, а когда узнал, что она работает в газете, сразу же весь затрясся, стал приглашать ее к ним домой, обещал рассказать ей что-то очень интересное о каком-то своем очень важном замечательном проекте. Костя был категорически против того, чтобы Маруся шла к ним в гости, в конце концов, он решил пойти с ней сам, потому что Марусю как раз пригласил на свой день рождения в один из ночных клубов Николай, и ей очень хотелось подарить ему что-то необычное, ей казалось, что было бы забавно, если бы Родион Петрович спел у него в качестве подарка от Маруси.
Выйдя из-за шкафа, Родион Петрович сразу же схватил гармошку и запел: «Мама, я жулика люблю», потом он еще пел про журавлей, которые рыдают над ним, улетая вдаль, про двор, занесенный снегом белым, пушистым и кого-то, стоящего у дверцы голубого такси, про дымок от сигареты, дымок голубоватый, про то, как кокаина серебряной пылью все дороги его замело, про то, что ему хочется друга и друга такого, чтоб сердце пылало при мысли о нем, и про то, как расцвели каштаны в Киеве весной, и его прическа расцвела на воле,— он пел как-то особо выразительно, с особенным чувством, стреляя глазами в сторону Кости..
Раньше Родион Петрович вообще в Ленконцерте работал, а потом ездил в дома отдыха, там выступал, песни пел, плясал. И дамы там были такие культурные, интеллигентные, его они очень ценили и обожали, такие, знаете, женщины зрелого возраста, на отдыхе, в свободное от работы и забот время, ищущие тепла и понимания. А потом все развалилось, и Ленконцерт, все, и они стали петь на улице, пришлось, а он даже дворником работать устроился, по утрам рано встает, в пять часов, и работает часа три-четыре, очень устает, но все равно, от искусства отказываться не хотел, ни за что, для него ведь это самое главное, вся жизнь его в этом, пение, музыка, он, как птица, всю жизнь пел, не думая ни о чем. Веню он на улице нашел, он там подрабатывал, Веня, а теперь с ним живет, он его всем обеспечивает, помогает ему из этого болота выбраться, они с ним по улицам ходят и песни распевают, на аккордеоне играют, и людям их песни очень нравятся, правда, милиция в последнее время так стала свирепствовать, просто ужас, просто до озверения какого-то дошла. Раньше он всегда пел у Гостиного Двора, в переходе, тогда была еще его жена-покойница жива, она рядом с ним всегда стояла и в бубен била и приплясывала так, в такт, она лет на сорок его старше была или на тридцать, он точно не знал. А теперь она померла, соседи на той квартире ее отравили, он был уверен, что ее отравили, они уже давно ее ненавидели, а после того, как она его к себе поселила, ему тогда жить было негде, и она его к себе взяла, так они просто в такую злобу впали невероятную, что даже он их боялся. Вот они ее и отравили, он видел, как она перед смертью мучилась, точно отравили. А он потом с той квартиры вообще уехал, комнату эту, что ему покойница оставила, за бесценок продал и уехал, только бы от них подальше, а то и его убьют, как ее. А тут они опять в переходе с Венечкой пели, и вдруг милиция подходит, их прямо под руки подхватили и потащили. Вокруг все стали заступаться, возмущаться, говорят: «Оставьте их, не трогайте, это певцы, они поют!» — а этим-то все равно, схватили их, как преступников каких, прямо потащили, аккордеон у него отобрали, и потом схватили его прямо за руки, за ноги и швырнули в эту машину ихнюю, и Веню тоже, грубо так, чуть кости не переломали, и аккордеон за ним прямо со всего размаху туда же закинули, он даже испугался, не дай Бог, повредят, инструмент музыкальный, дорогой, вещь тонкая, но к счастью, ничего, выдержал. А потом такие унижения, не дай бог, сидели они в этой их будке прозрачной за стеклом, умоляли в туалет выйти, Веня даже описался, представляете.
А вообще он по кладбищам любит гулять, там могилки разные, он надписи читает, ходит, там птички разные летают, собачки, кошки бездомные бегают, он их хлебом кормит, специально для них объедки припасает. Вот недавно шел он через мост через большую реку, не помнит уже, как называется, тут у нас в центре протекает, огромная река, самая большая в нашем городе, смотрит, там уточки плавают, а некоторые даже в лед вмерзли. Ему их так жалко стало, даже слеза прошибла, он так стоял на них и смотрел, даже забыл, куда шел, ей-богу, потом на концерт опоздал, его так ругали. Но они, вообще-то, на месте не стоят, они развиваются, прогрессируют. Они тут познакомились с одним бизнесменом, у него свое кафе, и еще он фильмы снимает, как кафе называется, он забыл, он ему карточку свою дал, там по-иностранному написано, но если нашими буквами читать, то «Сат» получается, «Сат» какой-то. И он настоящий интеллигент, просто высшей пробы, такой, знаете, интеллигентный, культурный, образованный человек, прямо как Маруся, ну интеллигент высшего класса. Так он им такую программу предложил, все продумано, ни одного лишнего слова, все просто так сделано, прямо как по нотам расписано. Вот сперва выходит Веня и говорит такой текст: «Уважаемые дамы и господа, бывшие жители Советского Союза, рабочие и колхозницы, дырки и батоны, народ Израиля, швабры, целки и лахудры, сейчас вы увидите первое в своем роде и очень необычное выступление Ванессы Израйловны, дочери белого офицера, посетившей нас с краткосрочным визитом». А потом Веня выходит опять, в шляпке с вуалью, в своем костюме и поет романс: «Не смотрите вы так, сквозь прищур своих глаз, джентльмены, бароны и леди…» А потом выходит Люба, и вот тут ее дебильность такая, уж пусть она не обижается, он от чистого сердца говорит, он человек простодушный, эта ее дебильность очень кстати приходится. Потому что она так улыбается, приплясывает, на ней такой колпак зеленый, и в руке у ней такой большой надутый шар, как переземратив, и она этим шаром всех вокруг по головам хлопает, и никто не обижается, все смеются, радуются, а потом выходит он, в цилиндре и во фраке, и с аккордеоном и поет «Перестаньте рыдать надо мной, журавли…» И вот этими журавлями все заканчивается. Каково! А мы ведь действительно все бывшие жители Советского Союза, мирные, безобидные, простодушные, приветливые, мы именно такие, так что это очень хорошо придумано. Ведь это совершенно новый стиль, такого никогда нигде не было! Это и был тот самый замечательный проект, о котором он обещал рассказать Марусе во время их первой встречи. Он был уверен, это совершенно новое, и они с этим выступлением будут иметь такой успех, даже не верится. И Марусю они пригласят на это их — как называется, когда первый раз фильм показывают? — премьера? Он также считал, что к этому номеру очень подошли бы еще и стихи, которые написала их хорошая знакомая Мина Абрамовна: «Я дочь СССР, а мужа вылечит советский диспансер…», но он пока не решился их предложить тому интеллигентному автору проекта, решил пока подождать.
А Мина Абрамовна, она в Зеленогорске живет, они к ней Марусю обязательно свозят. Она их лечит, от всех недугов лечит, она и художника Блинова от депрессии лечила, он в одну женщину влюбился и такой грустный был, весь белый, жить не хотел, ничего не ел, ничего ему не надо было. Ей девяносто лет, Мине Абрамовне, она такая дама красивая, видная, носит такой паричок небольшой, волос у нее совсем нет, совсем лысая голова… А красоту он все равно любит, цветы, они вот даже помогают торговцам на рынке Сенном цветы сохранять, вечером забирают у них ведра с цветами, и дома они у них всю ночь стоят, а рано утром опять относят, и разгружать цветы помогают, овощи разные, картошку, капусту тоже. А эти цветы бумажные, что у них на шкафу навалены, на стенах гирлянды и на потолке, это все тетя Люба делает, она тоже красоту очень любит, в этом они с ней похожи. А Донатас, их третий товарищ, с которым он еще в Сочи познакомился, когда по Союзу ездил с концертами, он корыстный, экономный очень, но очень влюбчивый, все ради любви, летит, как мотылек, тыщи швыряет, все любовь ему, любовь. А у Любы ведро эмалированное взял, капусту, говорит, засолю, и не отдает, уже два месяца прошло, Люба злится, спрашивает, где ведро, и он ему говорит: «Верни ведро Любе, раз брал, так отдай», — а он все забывает, так и не вернул до сих пор. Люба уж с ним разговаривать не хочет. У него один любовник богатый был, он вообще запретил ему в женское платье наряжаться и парик носить, а раньше Донатас только так и ходил. Вообще, с Донатасом жить — одно удовольствие, очень порядок любит, когда они с ним жили, он в шесть утра встанет, всю посуду вымоет, все полы намоет, все постирает, разложит красиво — одно удовольствие.
У них соседи такие страшные, они их боятся, все стараются тихо делать, чтобы, не дай бог, не услышали, не пожаловались, они люди мирные, боязливые, всего боятся, когда темно, по улицам вообще стараются не ходить, их каждый обидеть может, нападут, побьют, ограбят, не дай бог! И Марусе с Костей он не советовал по улице в темноту гулять, так что если они хотят, то они у них до утра могут переждать, посидеть, чайку попить, поговорить, а он песни им свои лучшие споет, а то тут депутата Старовойтову недавно убили, просто ужас, что творится. А вообще-то Маруся, если бы хотела, тоже могла бы с ними петь, она ведь прирожденная готовая солистка, и голос у нее такой хороший, звонкий, наденет блестящее платье с декольте, с разрезом, выйдет вперед и запоет, а он сзади на аккордеоне подыграет, а Веня подпевать будет. А то у них настоящей женщины в ансамбле нет, только Люба, но она петь не может, у нее зубы плохие, внутрь растут… Как только Родион Петрович кончил петь и рассказывать свою жизнь, сразу же начал говорить Венечка.
Он тоже произнес длинную пламенную речь о своем несчастном детстве, о том, какие у нас жестокие нравы, как много теперь на улицах преступников и бандитов, и как, вообще, все было бы ужасно, если бы не было в этом мире меценатов, которые помогают и поддерживают таких бедных и несчастных артистов, людей искусства, как он и Родион Петрович. Венечка, вообще, считал, что все проблемы в России будут решены только тогда, когда к власти здесь, как и в Америке, придут богатые семьи, то есть пары, вроде Кости и Маруси…
Костя тогда, кстати, сразу обратил внимание на то, что в их тесной комнатке, украшенной бесчисленным количеством бумажных цветов и фотографий голых мускулистых атлетов, он насчитал, по крайней мере, три импортных видеомагнитофона, два телевизора и одну японскую видеокамеру, это только то, что лежало на поверхности, поэтому он сказал Марусе, чтобы она ни за что не давала им свой телефон, что было уже поздно, так как они его уже знали, тогда, хотя бы, свой адрес, Костя считал, она им не должна называть ни в коем случае…
***
В последнее время мама давала Марусе деньги все реже и реже, даже в долг, поэтому, когда мама предложила Марусе треть суммы от той, которую она вложила в банк «Лицейский» в надежде получить высокий процент, Маруся сразу же согласилась. Если Марусе удастся забрать эти деньги назад, то на причитающуюся ей сумму она бы смогла жить, по меньшей мере, три месяца.
Отделение банка находилось недалеко от маминого дома, на улице Зины Портновой, однако уже через месяц после того, как вложила туда свои деньги, когда она сама пошла в этот банк, там все оказалось закрыто, а на дверях висела табличка, что банк переехал на Полюстровский проспект, и так далеко маме ехать уже не хотелось.
Маруся потащилась на Полюстровский, где не без труда на отшибе, посреди строительной площадки, она нашла здание, на котором висела табличка «Банк Лицейский», но оно тоже оказалось закрыто, а на дверях висело объявление, что в ближайшее время выплата процентов по вкладам производиться не будет, так как в банке переучет; был, правда, указан еще и номер телефона, по которому нужно звонить в случае возникновения каких-либо вопросов. Маруся отправилась домой и стала звонить по этому телефону, но там все время было занято, а если и удавалось дозвониться, то трубку никто не брал. Маруся опять потащилась туда, однако объявление на дверях на сей раз оповещало, что все выплаты будут производиться по новому адресу, на Новоизмайловском проспекте.
У дома на Новоизмайловском толпилось огромное количество каких-то сумасшедших пенсионеров, все они громко чем-то возмущались… У стеклянной двери стоял охранник, который всем объяснял, что сегодня — а была всего половина одиннадцатого — прием уже окончен, деньги закончились, нужно ждать следующего приема, а когда он начнется, никто точно сказать не может, так что волноваться особенно не стоит, все должны понять, какое сейчас тяжелое положение в стране, какой кругом бардак, поэтому всем нужно успокоиться и расходиться, он бы и сам дал с удовольствием из собственного кармана денег всем, кто их так ждет, но их у него, к сожалению, нет… И охранник даже достал из-за пазухи прекрасный кожаный бумажник, открыл его и продемонстрировал всем собравшимся: там действительно ничего не было, бумажник был совершенно пуст. Тогда высокий седой мужик с красной физиономией в каракулевой шапке предложил составлять списки на запись на прием, таким образом, будет создана очередь. Все тут же выстроились к нему, он достал блокнот и стал всех записывать, следующее собрание он назначил через неделю…
Через неделю Маруся снова отправилась на Новоизмайловский, хотя она вообще ненавидела эти новые районы, нагонявшие на нее тоску, и старалась туда не ездить без особой нужды. Огромные пространства, серые одинаковые дома и ветер, гоняющий по лужам и грязи бессмысленные листья и бумажки… И только мысли о том, что она может получить на халяву бабки, вложенные мамой в этот банк, заставили Марусю тащиться туда. Уже издали она опять заметила огромную толпу, как на митинге, в центре на каком-то возвышении стоял все тот же краснорожий мужик в каракуле, он зачитывал списки, проводил перекличку, из толпы выкрикивали: «Я!», «Здесь!», «Присутствует!«,- Маруся тоже протиснулась поближе к мужику, у него в руке была целая пачка густо исписанных листков, вырванных, очевидно, из школьной тетради в клетку, она долго стояла, ожидая, пока он назовет ее фамилию, но он все называл других, рядом с Марусей трясущийся старичок с орденским планками на пиджаке жаловался другому, что вот, он вложил все свои средства в этот поганый банк, а ему так нужны деньги на лечение, ему постоянно необходимо дорогостоящее лекарство, иначе он просто умрет, и вот теперь он не может получить назад свои деньги, а он имеет на это право больше, чем кто бы то ни было, ведь он инвалид войны, ветеран, персональный пенсионер…
Тем временем перекличка закончилась, но Маруся так и не услышала своей фамилии, а пробиться к этому мужику было не так просто, его окружало плотное кольцо людей, каждый из которых хотел что-то у него выяснить, в конце концов, ей это удалось, оказывается, ей было нужно подать еще и официальное заявление, и только тогда ее окончательно внесут в список, тот список, в который она записалась в прошлый раз, был предварительным, а официальные заявления принимал вахтер. Маруся хотела тут же написать заявление и отдать его, но у нее с собой не было паспортных данных мамы, поэтому нужно было приехать сюда еще раз, причем обязательно в среду, потому что заявления там принимались только по средам, с восемнадцати до двадцати часов. Маруся поехала к маме, они вместе составили заявление, где мама еще и указала, что она блокадница, блокадный ребенок.
Через неделю Маруся снова отправилась на Новоизмайловский, к шести часам там уже выстроилась целая очередь, на сей раз на подачу заявления к вахтеру, она отстояла в этой очереди целый час, наконец ее заявление все же приняли, предупредив, что через неделю она должна появиться на перекличке. Еще через неделю Маруся снова прибыла на перекличку, но на улице перед домом уже никого не увидела, вся толпа на сей раз была в вестибюле банка, где на всех стенах висели длинные списки, в беспорядке развешанные листки, на которых от руки были написаны фамилии. Люди, лихорадочно отталкивая друг друга, метались от стены к стене в поисках своего имени. Наконец, на одном из листков Маруся обнаружила фамилию своей мамы, однако, что делать дальше, она не знала, так как никто больше никаких указаний не давал, и даже дату следующей переклички узнать больше было не от кого. Рядом с Марусей стояло несколько растерянных пенсионеров, тоже тупо уставившихся на листок со своими именами, судя по всему, их волновала та же проблема, что и Марусю. Видимо, мужику в каракулевой шапке надоело организовывать толпу, и он просто вывесил списки на стены. Дверь, ведущая во внутреннее помещение банка, была плотно закрыта, на вахте тоже никого не было. Больше Маруся туда не ездила. Маме она сказала, что подала заявление и теперь надо ждать, когда подойдет очередь на получение денег, ее оповестят…
***
Маруся все-таки пригласила Родиона Петровича и Венечку в клуб на день рождения Николая. Правда, перед этим ей пришлось долго им объяснять, где находится Владимирская площадь, рядом с которой находился этот клуб, и как туда Родион Петрович и Венечка должны добираться от Технологического института, где они жили. Наконец, Родион Петрович, кажется, что-то вспомнил, он когда-то видел этот собор, что там находится, и даже рядом с ним несколько раз пел.
Родион Петрович явился в своем рыжем парике, клетчатых брюках, пиджаке и кепке, как у Олега Попова, Венечка — в цилиндре, белых перчатках и черном сюртуке, с бабочкой на шее, он сразу же стремительно прошел в зал и присел к столику Николая, потом вдруг схватил чашку у него из-под носа и лихорадочно из нее отхлебнул, приговаривая:
— Ах, какое хорошее кофе! Люблю кофе, просто жить без него не могу! — а потом огляделся по сторонам, окинув взглядом присутствующих в зале гостей Николая, среди которых было довольно много одетых в вечерние платья и наряды девушек и вдруг, визгливо захихикав и подпрыгнув от чрезмерного возбуждения, разразился длинной тирадой:
— Вот, блядь, понимаешь, на хуй, пришли какие-то проститутки, какие-то бляди, они ничего не умеют, абсолютно ничего не понимают, и вот эти бляди открыли свои варежки, вылупили свои буркала, и давай, плати нам! А за что тебе платить, на хуй ты вообще сдалась, блядища чертова, ты ни хуя не умеешь, ни хуя не знаешь, только можешь жопой своей вертеть, как корова, вот и все! Не знаю, я этого просто не понимаю! Я, конечно, извиняюсь, но это же ни в какие рамки!
Во время этих слов Венечка стянул с себя белые перчатки и небрежно, изображая элегантность, обмахивался ими, кокетливо глядя на Николая. Видимо, он решил, что все эти девушки тоже приглашены развлекать Николая, петь и танцевать. Николай после этого вечера несколько раз говорил Марусе: «Ах Марусенька, что это за мудаков ты тогда ко мне привела на день рождения!»
А Родиону Петровичу Николай очень понравился, он сказал Марусе, что у Николая такая замечательная улыбка, и в общении он не делает никакого различия между мужчинами и женщинами, как это обычно бывает.
Позже Маруся еще раз пришла к Родиону Петровичу в гости, на сей раз с Алексеем Бьорком, предварительно позвонив и предупредив, что она будет с одним очень состоятельным шведским меценатом, ценителем уличного пения, Родион Петрович тоже сразу схватил гармошку и играл, пожалуй, не менее выразительно и задушевно, чем в присутствии Кости. А Алексей, в ответ на их бурные излияния по поводу любви к искусству и своей бедности, вдруг зачем-то тоже стал говорить им, что они с Марусей такие же бедные артисты и художники, и даже еще гораздо беднее, чем они, что им часто тоже совсем нечего есть, что сам он пенсионер — в это мгновение он даже достал из кармана свою пенсионную книжку и пихнул им в нос — что у него единственные ботинки, которые он носит и зимой, и летом, и все это является следствием его большой-большой любви к искусству и литературе… Зачем он все это стал им говорить, Маруся так и не поняла, потому что заранее его предупредила, в каком качестве его туда приглашают. В то время, когда Алексей все это говорил, Маруся заметила, как Родион Петрович и Венечка переглянулись, и глаза у обоих как-то сразу потухли, они почти одновременно оба поникли и, кажется, потеряли всякий интерес и к Бьорку, и к Марусе, после этого визита они уже ей больше никогда не звонили.
***
Маруся сидела на своем рабочем месте, вдруг в комнату вбежал запыхавшийся взъерошенный Саша. Вчера вечером, возвращаясь к себе домой, он вышел у метро «Технологический институт», прошел по темной улице, завернул во двор, и стал искать нужный подъезд, поскальзываясь на сугробах — пошел снег, сверху падали большие мягкие хлопья, медленно кружась, и Саше захотелось просто встать и смотреть, запрокинув голову, в темное небо, от вида беспрестанно падающих белых хлопьев у него начинала кружиться голова, реальность постепенно отодвигалась куда-то на второй план, а потом и вовсе исчезала, и он вновь переживал уже почти забытое ощущение счастья, как когда-то в юности, когда они с друзьями сидели у лесного костра, вдыхая его горьковатый дымок, и пели: «Сырая палатка — и почты не жди…»
Беспричинное ощущение счастья теперь чаще всего приходило к нему, когда он внезапно замечал ярко-синее небо между высокими узорными башнями домов у Пяти углов — тогда он внезапно радовался, что живет, и это вычлененное и высеченное из темного бессмысленного хаоса жизни ярких светлых искр и составляло самый главный смысл — другого не было. Ему не хотелось думать о будущем, а уж тем более вспоминать прошлое — он давило на него и мешало стремительно продвигаться вперед, как бы задерживало на месте. Он стремился воскресить в себе ощущение полета — когда как будто летишь над землей, раскинув руки, и полностью сливаешься с лесным озером, маленьким, едва журчащим ручейком, полянкой с ромашками на опушке леса, вообще, со всей окружающей природой, растворяешься в ней и становишься ее неотъемлемой частью — и в этом для него заключалась самая главная радость жизни …
Эту историю с некоторыми вариациями в ту или иную сторону Маруся слышала от Саши уже несколько раз. Вчера он возвращался домой с открытия выставки, куда был обязан сходить по долгу службы как сотрудник отдела культуры газеты. На вернисаже было много шампанского, потом они вышли с одной журналисткой на крышу Эрмитажа и там целовались, их фотографировали, и Саша обещал Марусе показать фотографии, как только те будут готовы.
«Саша напоминает мне городского сумасшедшего — как-то сказала Марусе Арина, бойкая художница со стриженными ежиком крашенными в оранжевый цвет волосами. Саша ходил всегда в одном и том же пиджаке и потертых джинсах, Марусе же он, скорее, напоминал своими длинными волосами, очками и всклокоченной бородой революционера-разночинца. Он жил у своего приятеля, раньше у него были жена и два сына, но потом жена его выгнала.
Саша вел дневник, записывая туда все свои мысли. Но однажды он открыл дневник — он как раз был в хорошем настроении, пришел из Публичной библиотеки, где прочитал новый роман Умберто Эко — собираясь записать туда очередную мысль, и вдруг рядом с фразой «Когда целуешь француженку, чувствуешь, что целуешь всю Францию», он обнаружил написанные на полях красной ручкой слова: «А пошел ты на хуй!».
Подобными грубыми замечаниями и комментариями был исписан весь его дневник. Например, рядом с сашиными рассуждениями по поводу дорогого французского вина и сексапильности голливудских актрис было написано «Вот, блядь, мудак!» и «Мудило!». И все это сделала его жена! А ведь его жена была художницей, окончила училище Серова, а отец ее был даже изобретателем, и вообще, семья очень интеллигентная. Хотя странности у нее с самого начала были. Надо было ему еще до свадьбы на это внимание обратить — идут они по улице, а она вдруг сядет на тротуар, и сидит — огромная, толстая и не сдвинуть ее никак. А он внимания на это не обращал, ему это казалось нормальным, ну каприз, что ли, какой-то, непонятно… А потом она, стоит выпить немного, завалится на диван и храпит, а ему поговорить хочется — и не с кем. Саша попытался спросить у жены, почему она так поступила — влезла без спроса в его дневник, ведь чужие дневники и письма читать нехорошо, а она даже говорить не захотела, захлопнула дверь и приказала ему искать себе другое жилье. Саша уже несколько месяцев не получал зарплату у себя на работе, и денег у них не было, в их семье наступил настоящий голод. Жена выбросила даже его письма, которые он писал еще в армии и так берег.
Когда он служил в армии, то по ночам по его просьбе его будили, и он слушал Би-Би-Си. Но об этом быстро прознал майор — приемник забрали, а Сашу вызвали «на разговор». Правда, Саша был благодарен майору — тот не стал передавать дело дальше по инстанции, а ограничился поучительной беседой и гауптвахтой. Потом Саша влюбился в белокурую пышногрудую дочь одного офицера — он ходил за ней всюду, а однажды даже не явился ночевать в казарму. За это его тоже отправили на гауптвахту. Он не отказался от своей любви, но офицер свою дочку вскоре отправил в город, и Саша долго еще писал ей пламенные письма, пока не получил от нее короткую записку «Я вышла замуж. Отстань!» По этому поводу, и о женщинах вообще, в дневнике у Саши было написано: «Женщины прекрасны, как весна, но непостоянны, как осенняя погода»«. Теперь на полях рядом с этой фразой красовалось выведенное жирными красными чернилами слово «Козел!!!».
Все сашины письма были аккуратно разложены в пластиковые папочки, которые жена себе оставила, а письма все выбросила на помойку. Он был просто ошарашен, ничего не мог понять, и даже его сыновья не захотели с ним говорить — все ушли, оставив его одного на кухне. Они жили тогда в коммуналке — у них было две комнаты. Саша перенес все свои вещи в комнату поменьше, а жена с детьми заперлась на ключ в другой и больше с ним старалась вообще не встречаться. Через месяц у него пошла горлом кровь и его положили в больницу с диагнозом «открытая форма туберкулеза». Он долго лечился, а когда выписался из больницы и пришел домой, обнаружил, что его комнату уже заняли сыновья, а все его вещи сложены в картонные коробки и выставлены в коридор. Жена снова предложила ему поискать себе другое жилье, потому что содержать его она не собиралась. Саша не знал, что же ему делать: родители умерли, родственников у него не было, знакомые и друзья на все его просьбы отвечали уклончиво — кому нужен в квартире посторонний человек. Когда он уже, было, совсем отчаялся, его приятель, одинокий художник, предложил ему комнату у себя в мастерской. Саша был счастлив, он просто не верил в свою удачу, но это была правда — у него нашелся друг.
Через некоторое время жена стала звонить ему и требовать денег — и он никогда ей не отказывал, давал — ведь у них же дети… Правда, в газете, куда ему удалось устроиться работать, деньги ему платили очень редко — к нему там относились снисходительно и смотрели на него свысока…
Саша признался Марусе, что и теперь, как тогда в армии, любил слушать радио, особенно по ночам, когда далекие голоса, английские, французские, итальянские вещают о чем-то непонятном, неведомом, и он кажется себе маленькой, потерянной, крошечной песчинкой в этой бесконечной далекой вселенной… И еще, с тех пор он не мог спокойно видеть бомжей, однажды летом он шел мимо Екатерининского садика и там в кустах вдруг заметил, что кто-то шевелится, он присмотрелся — двое бомжей разложили на траве газетку и аккуратно поставили на ней угощение: бутылочку стеклоочистителя, два плавленых сырка и четвертинку хлеба. Саша чуть не заплакал от жалости и умиления, он так живо вообразил себя на их месте, что ему стало не по себе. И он проникся еще большей признательностью к другу, совершенно бескорыстно приютившему его.
На пресс-конференции в Эрмитаже, с которой вчера возвращался домой Саша, Маруся была тоже, правда на крышу она не пошла, так как ей надо было пораньше вернуться домой. Традиционный для такого рода мероприятий фуршет на сей раз проходил в просторном директорском кабинете, где были заранее раставлены столики с бутылками с водой, белой и зеленой, с соками, шампанским, и белым вином «Монастырская изба». Пожилая перекошенная журналистка с косматыми седыми волосами и красными рачьими глазками за толстыми стеклами очков задала свой традиционный вопрос: «А сколько будет стоить вход на выставку?» «Недорого, всего двадцать рублей». «Ну и ну, двадцать рублей, как в баню. Так что же — в бане чистота, а здесь красота!» Она радостно заулыбалась, и в очередной раз протянула сморщенную ручку, изуродованную артритом, к бутылочке с ярко-зеленой водой «Тархун». Эту журналистку Маруся встречала практически везде, на всех выставках, артистических тусовках, премьерах спектаклей и фильмов и даже на показах мод. Она ходила сгорбленная, в одной ее руке всегда была старая потрепанная кошелка, и она всегда первой набрасывалась на предложенное в качестве фуршета угощение. Эта пожилая журналистка всегда носила с собой полиэтиленовый пакетик, деловито доставала его из кошелки и складывала туда съестное, если же с ней рядом оказывался кто-нибудь из коллег, она, не поднимая глаз, поясняла: «Мне еще сегодня ехать на Лесной проспект, там будет пресс-конференция. Вы туда собираетесь?» — и, не дожидаясь ответа, тихо отходила в сторону, продолжая жевать зажатое в иссохшей ручке печенье.
Другая журналистка, работавшая на петербургском радио, Кармелита, с апоплексически красным лицом и ярко раскрашенным красной помадой огромным ртом и огромными вытаращенными глазами под иссиня-черными бровями при первой же встрече сообщила Марусе, что она близко знакома с консулом и атташе по культуре Франции, так что, если что, то Маруся всегда может к ней обратиться. Маруся слушала ее очень рассеянно, все это ее не очень интересовало. Однако на одном из приемов она действительно подошла к консулу и демонстративно, чтобы Маруся видела, с размаху хлопнула его по плечу и громко произнесла: «Ну че, как дела? Ах, блядь, еб твою мать, как тут все на хуй, культурно! Выставка-то ничего! А где этот хуй?» — видимо, она имела в виду атташе по культуре Франции. Маруся с изумлением выслушала эту ее тираду, консул же воспринял все очень спокойно, с истинно французской галантностью, добродушно кивая в такт каждому ее слову, может быть потому, что он приехал в Россию совсем недавно и не очень хорошо говорил по-русски. Потом Кармелита стала рассказывать Марусе, что она уезжает в Германию, так как вышла замуж за немца, и вообще, в эту страну больше на хуй не вернется. Но вчера на пресс-конференции, ровно через месяц после того приема, она появилась снова, в ярко красном пидажке и желтой шелковой блузке, и сказала, что пока что будет ездить туда-сюда, и еще подумает, переезжать ли ей навсегда в эту хуеву Германию…
***
Костя не знал, как осознает себя Маруся, но он сам от своего «я» уже давно избавился, ведь в Древнем Египте, например, и в Китае, да и в Европе в Средние Века этого «я», индивидуума, в нынешнем понимании не существовало вовсе. Так что Костя уже осуществил сдвиг лет этак на семьсот-восемьсот по меньшей мере, и то, что Маруся перед собой видела в данный момент, был не совсем он, а только его оболочка, не менее иллюзорная, чем тот факт, что он лежит на диване в своей комнате, а не находится на капитанском мостике в открытом море под звездным небом.
На эту тему, кстати, у Хайдеггера, есть замечательная цитата…
Костя вскочил с дивана, подбежал к книжной полке и, выхватив из длинного ряда книг немецкое издание «Sein und Zeit» в золоченом кожаном переплете, подарок Кати, стал лихорадочно его перелистывать в поисках нужной цитаты, но, так и не обнаружив того, что искал, с яростью изо всех сил швырнул книгу об пол.
Маруся вздрогнула — резкий, как выстрел, хлопок упавшей книги вывел ее из полугипнотического забытья, в которое ее часто повергали длинные костины рассуждения. Это ее сомнамбулическое состояние тоже часто выводило из себя Костю, так как иногда ему вдруг начинало казаться, что она его совсем не слушает, а просто спит, а иногда ему, вроде бы, было совсем все равно, слушает его кто-нибудь или нет, так как при разговоре он никогда не обращался непосредственно к собеседнику, а сидел, напряженно уставившись в одну точку, и Марусе даже казалось, что он с таким же успехом мог бы говорить не с ней, а со стеной.
Ее вообще пугали резкие перепады костиного настроения, так же, как и образ бушующего моря, к которому он постоянно возвращался в своих речах. Всякий раз после своего очередного попадания в дурдом, Костя подробно описывал ей свои мании и видения, которые его посещали в ненормальном состоянии, и Маруся прекрасно помнила, как в Париже Костя тоже воображал себя капитаном, и к чему это привело. Но самый большой испуг Маруся пережила много лет назад, в тот год, когда Костя впервые угодил в дурдом.
Маруся возвращалась домой поздно вечером из детской поликлиники, куда по настоянию Кости накануне устроилась работать уборщицей, предварительно тоже предав торжественному сожжению свой диплом. По мнению Кости, ей просто необходимо было так поступить, потому что именно такому испытанию подвергали себя арабские принцы, отправляясь на улицу в нищенском одеянии просить милостыню прежде, чем их посвящали в суфиев, ибо только так они могли постичь бренную сущность мира, мирской славы и знатности. А Маруся была дочерью номенклатурного начальника, дипломата, что, по нынешним меркам, примерно соответствовало арабским шейхам…
Маруся открыла входную дверь и только успела включить свет, как из глубины коридора на нее набросился Костя, обхватил ее за шею и стал душить, вся левая половина его лица вздулась, опухла и представляла из себя один сплошной синяк, она с трудом высвободилась, оттолкнула его и стремительно понеслась вниз по лестнице, выскочила на улицу в одних джинсах и шерстяной кофте, без пальто и шапки, хотя была уже поздняя осень, шел мокрый снег и было довольно холодно… Маруся села на первый подошедший трамвай, благо они еще ходили, и поехала на нем до кольца, потом обратно, до другого кольца, и так ездила туда-сюда до поздней ночи, в трамвае было хотя бы тепло, она все пыталась прийти в себя после неожиданного костиного нападения. Вскоре Костю забрали санитары…
Позднее Костя объяснил Марусе, что он вовсе не собирался ее душить, а просто незадолго до ее прихода его вдруг осенило, что пророчество Ницше о Белокурой Бестии, на самом деле, относится вовсе не к мужчине, а к женщине, что в целом соответствует и грамматической форме этого выражения: Белокурая Бестия — это ведь она, а не он, и почти сразу же ему пришло в голову, что Белокурая Бестия это и есть Маруся, более того, в ней воплотились Вечная Женственность, Маргарита из «Фауста» Гете, Незнакомка Блока, Жанна д Арк, а заодно еще и статуя Свободы, и Родина-мать с Пискаревского кладбища, точнее, вся их гранитная мощь, так как одновременно она была еще и Смерть с длинной стальной косой, которой теперь будет косить налево и направо всех костиных врагов, расчищая ему, последнему Мессии и Спасителю Мира, путь к окончательной победе над миром. А так как это именно он подготовил ее Приход, то пока его миссию можно было считать оконченной, и он мог спокойно сидеть дома и отдыхать, дожидаясь, пока она не позвонит ему по телефону, чтобы доложить о проделанной работе и пригласить принять последний торжественный Парад Победы, во время которого прекрасные обнаженные по пояс девушки, сподвижницы Маруси, современные амазонки, будут стройными рядами подходить к Косте и бросать к его ногам знамена поверженного противника.
После этого в мире не останется ни одного мужчины, все они будут истреблены собственными женами и любовницами, так как после того, как им откроется вся глубина духовных и физических страданий Кости, они смогут любить только его одного, и отныне Костя останется в этом мире один в окружении миллионов прекрасных и преданных женщин во главе с Марусей…
Все эти мысли привели Костю в такой восторг, что, как только он услышал, как в прихожей открывается дверь, он со всех ног кинулся навстречу Марусе, чтобы радостно ее обнять и сообщить ей ее великое предназначение. А Маруся подумала, что он собирается ее задушить, и убежала.
Лицо же себе Костя разбил чуть раньше, когда возвращался домой из библиотеки. Он шел очень быстро, стремительно приближаясь к дому, и вдруг в его мозгу промелькнула странная мысль о том, что в стене дома слева от него есть незаметный для обычных людей проход, наподобие того, что обнаружил у себя в чулане за старым холстом с нарисованным на нем очагом Буратино, проход в волшебную страну, но, чтобы в него войти, нужно просто очень верить, тогда даже можно пройти сквозь стену, если очень верить, но сделать это нужно было немедленно, ибо тот, кто это сделает первым, в ком сильна будет вера, тот и станет избранником; именно здесь, в стене дома, и находилась брешь в Истории, через которую и должен был в это мгновение пройти Костя, это был его шанс, и он не мог его упустить. Поэтому Костя резко, не замедляя шага, повернулся к стене и с такой силой ударился о нее головой, что даже на какое-то мгновение потерял сознание и едва не упал на землю, но только присел, а потом резко выпрямился и, как ни в чем не бывало, дошел до дома, боли он почти не замечал, только лицо все опухло.
После этого Маруся решила жить отдельно от Кости. Костя же считал, что все его попадания в дурдом — это просто временные срывы, на которые не стоит обращать особого внимания, так как они ничего не значат и не могут поставить под сомнение главного в его жизни. Это что-то вроде временного опьянения или миражей, которые иногда посещают путника в пустыне или моряка в море, утомленных долгим и изнурительным странствием в огромном безбрежном пространстве, к этому нужно относиться снисходительно, в конце концов, у всех людей есть свои небольшие недостатки, поэтому Маруся не должна бояться его советов, а наоборот, должна полностью ему доверять, так как на сей раз он уже не ошибается, а может с уверенностью указать ей путь, по которому она должна идти…
Сама Маруся никогда не чувствовала никакой особой уверенности ни в чем, она чувствовала себя огромным полым шаром, катящимся по жизни наподобие перекати-поля и способным наполняться любым содержанием, любыми мыслями и словами. Поэтому, наверное, ей очень не нравился рассказ Чехова «Душечка», так как в главной героине этого рассказа, которая меняла себе мужей, а вместе с ними все содержание своей жизни, она невольно узнавала и себя, и сам Чехов со своей идиотской бородкой ее всегда жутко раздражал, так как он, наверняка, ненавидел баб, и особенно таких, как она, Маруся, не случайно ведь он написал такой рассказ.
Пока Костя был с ней рядом и говорил с ней, она также думала, что приближается к постижению истины, но, стоило ей с ним расстаться, выйти на улицу, как у нее в голове все снова путалось, и она толком не знала, не только для чего ей вообще жить, но и то, чем она будет заниматься в следующее мгновение, куда пойдет, с кем встретится…
***
Самолет приземлился в Ницце, причем Марусе в какое-то мгновение даже показалось, что они садятся в воду: посадочная полоса начиналась у самого моря, а сидевший рядом со Светкой бородатый мужик даже спросил у нее, умеет ли она плавать, отчего Светка вдруг завопила на него не своим голосом, и неожиданно зарыдала, мужик очень испугался, Марусе тоже стало не по себе.
В аэропорту они сели в уже заранее арендованную машину Рено-пикап. Дул сильный ветер и, несмотря на то, что светило солнце, Маруся дрожала от холода. Они въехали в город по узким улочкам и мимо довольно высоких домов, скрывавшихся за зелеными деревьями, добрались до гостиницы.
— Вот видишь, дорогая, — с нескрываемой гордостью комментировал Вася, — видишь этот отель? Он находится в пятнадцать минутах ходьбы от Фестивального дворца. А когда я десять лет назад впервые здесь появился, мы жили вон та-ам, — Вася махнул рукой куда-то назад, — А оттуда до дворца идти нужно было не меньше часа. Видишь, как мы с тех пор выросли?
Маруся должна была прочитывать все журналы и газеты от корки до корки и каждое утро давать Васе краткий отчет, сообщение, что на фестивале произошло нового и как оценивает пресса тот или иной фильм. Вася взял напрокат мобильный телефон специально для Маруси, чтобы постоянно поддерживать с ней связь и в любой момент иметь возможность дать ей новое задание. Вася познакомил Марусю со своей подругой, американкой, высокой тощей бабой с морщинистым злобным лицом, в белом костюме. Вася предупредил Марусю, что Анка (как он ее называл) — настоящий профессионал, а всех его предыдущих менеджеров она расценивала как «absolutely unprofessional», т.к. она терпеть не может непрофессионалов, к тому же, они даже не говорили по-английски.
В кафе фестивального дворца был бесплатный кофе для участников фестиваля и для журналистов, куда пускали по аккредитации, обычно висевшей у участника на шее, и в зависимости от цвета ее обладателя допускали на разные фестивальные мероприятия. Самого низшего разряда считалась желтая карточка, потом шла голубая, розовая, и наконец, белая — самого высокого класса, с ней пускали даже на любой банкет и вечеринку, на встречу с любыми звездами. У Маруси была карточка желтого цвета, в ее распоряжении, правда, совершенно случайно оказалась еще одна — голубая, предназначавшаяся по замыслу Васи для какого-то его московского знакомого, но тот не смог приехать, а аккредитация на него была получена. Маруся пользовалась ею для прохода на все просмотры для прессы, пока какой-то особо зоркий и бдительный охранник не отобрал ее у нее. Он внимательно рассмотрел аккредитацию и спросил:
— Это вы — Сергей?
— Да, — нахально отвечала Маруся. — Меня так зовут.
— А разве Сергей — женское имя? — продолжал цепляться охранник.
— Да, в русском языке есть Сергей мужского рода, и женского, как, например, Мишель или Саша — стала объяснять Маруся, но охранник с недоверием осмотрел ее и потребовал паспорт.
Маруся сказала, что у нее его с собой нет, но она сейчас сходит и принесет. Охранник оставил аккредитацию Сергея у себя, и в распоряжении Маруси с тех пор осталась лишь одна аккредитация — желтая. На просмотры с ней можно было проходить, только если оставались свободные места, то есть в последнюю очередь, но в кафе все же пускали свободно.
Там, в уютном полутемном зале стояли круглые зеркальные столики и низенькие мягкие диванчики, а у стойки официанты предлагали черный кофе с маленькими шоколадками, сахар в длинных пакетиках и даже сливки в пластиковых круглых формочках, также можно было пить фруктовые напитки в длинных стаканах со вкусом клубники, малины и колы. В этом кафе журналисты назначали друг другу встречи и отдыхали в ожидании очередной пресс-конференции. Тут-то к Марусе однажды и подошла Анка и завела с ней разговор по-английски, она стала жаловаться Марусе на Васю, что он ей не платит, а у ее отца недавно была тяжелейшая операция, и ее мать тоже буквально на краю могилы, а ее сестра недавно сделала аборт, и на все это нужны деньги, и немалые, а Вася ее обманул и не заплатил ей обещанный процент. Маруся сказала, что Вася ей тоже не платит, что он ее только кормит и то не очень много — вот и все. Вечером следующего дня Вася неожиданно спросил Марусю, зачем она рассказывает Анке, будто работает на него бесплатно. Маруся стала отнекиваться, говорить, что Анка врет, а Вася со значительным видом заявил: «Дорогая, американки никогда не врут. Это такие люди, они так воспитаны с самого детства. Никогда не говорят ни слова неправды».
В последнее время Вася постоянно был в хорошем настроении — его дела шли отлично, он завязывал все новые знакомства с нужными людьми, банкирами, богатыми бизнесменами, каждый вечер он раскладывал на телевизоре у своей кровати визитные карточки, которыми сперва любовался, а потом аккуратно складывал в особую папочку.
***
Вечеринка в честь открытия фестиваля проводилась в огромном синем павильоне, возведенном специально ради такого случая. Эта вечеринка проводилась под знаком нового французского фильма «Сонный город». Пропуском на вечеринку служили специальные часы на синем пластиковом ремешке с прозрачным в форме полусферы стеклом над циферблатом, на котором было написано «Dream city». Вокруг синего павильона, находившегося на пляже, в непосредственной близости от моря, выставили двойное оцепление, пускали только счастливых обладателей часов, в результате страшную иссушенную облезлую бабу, которая, как потом выяснилось, оказалась французской актрисой, исполнительницей одной из главных ролей в этом фильме, так и не пустили, она пришла такая радостная, чуть ли не вприпрыжку направилась к этому павильону и жрала мороженое на ходу, а охранники встали перед ней стеной и молчали, напрасно она клялась, что забыла свои часы дома и пихала им какие-то удостоверения, охранники были совершенно непробиваемы, и Маруси видела, как она так и осталась стоять на песке у входа в своем шелковом черно-белом платье с рожком мороженого в руке, чуть не плача от злобы и досады. А Маруся со Светкой, Васей и его съемочной группой благополучно прошли внутрь.
Вася ради такого случая был одет в смокинг, специальную белоснежную рубашку с маленькой красненькой ниточкой на самом подоле, но эта ниточка была видна только, когда он надевал рубашку или выпускал ее поверх брюк, а так ее было не видно, на нем была бабочка и круглые железные очки, его ровно подстриженная челка отливала блеском, а белые зубы сверкали в приветственной улыбке. Он по-свойски здоровался со всеми «звездами»: с Робертом Де Ниро, Кристофером Уокеном, Джоном Малковичем, Кетрин Зета-Джонс, Бредом Питом, Джонни Деппом, Кеану Ривзом, Гасом Ван Сентом, Николь Кидман, Брюсом Уиллисом, Франко Неро, Люком Бессоном и Милой Йовович — его подругой, тощей девушкой, улыбавшейся всем соблазнительной улыбкой и глядевшей как бы исподлобья. Тут же дефилировала выделявшаяся своим ростом в толпе Клава Шиффер, Вася всегда ее звал только так. Арнольд Шварценеггер, который на экране всегда казался Марусе пугающим гигантом, на самом деле оказался очень веселым и кокетливым, он развлекался тем, что, разбежавшись, прыгал на надувной матрас, после чего начинал на нем ворочаться и кувыркаться, дрыгая руками и ногами и заливаясь громким смехом. Особо почтительно Вася здоровался со здоровенным кудрявым мужиком с красной физиономией, он долго тряс ему руку, а потом долго с ним разговаривал. Денис, васин камерамэн, как он его называл, пояснил Марусе, что этот человек возглавляет Госкино.
Тем временем, вокруг началось веселье — под звуки сомнамбулической потусторонней музыки полуголые юноши в прозрачных аквариумах весело кувыркались и боролись друг с другом, а каждый посетитель, просунув руку в специальную резиновую перчатку, свисавшую из аквариума, мог юношу пощупать, что Вася и проделал с веселым хихиканьем и блеском в глазах. Повсюду по полу были разбросаны надувные матрасы и подушки, а сверху на невидимых веревочках свисали огромные белые полотнища — простыни, наподобие того, как бывает развешано белье в коридорах и кухнях больших коммуналок, правда, все, включая размеры простыней, здесь отличалось большим размахом, между этими простынями и блуждали гости, эти простыни были одновременно еще и своеобразными экранами, на которые проецировались кадры из «Сонного города», главным образом, наркотические галлюцинации и сны. На одной из таких простыней Маруся увидела оставшуюся у входа французскую актрису, в роли какой-то бабы, которая лежала в постели в тесной комнатке с видом на Эйфелеву башню и которой снился сон о том, что она стала знаменитой актрисой. Тут же была и Анка, однако к Васе на сей раз она не подошла, а демонстративно говорила с низеньким мужичком, у которого были блестящие коричневые глазки и зализанные на лоб волосики.
— Блядь, — тихо сказал Вася Марусе, но как бы не обращаясь к ней, а про себя, — эта сука, кажется, снюхалась с Порфирьевым с Шестого канала. Это она мне знак дает, ах, сучара!
— А ты распространяй про нее слухи, что она лесбиянка! — весело посоветовала ему Светка. — Тогда с ней никто не захочет иметь дело, ведь от лесбиянок все стараются держаться подальше, а она действительно похожа на лесбиянку.
— Здорово! — Вася заметно приободрился. — Да ты у меня просто гений, дорогая!
Светка с довольным видом отошла в сторону, затем, взяв у проходившей мимо полуголой официантки с подноса бокал шампанского, залпом опрокинула его в рот, утерлась салфеткой и победоносно ухмыльнулась — очевидно, она все еще находилась под воздействием васиной похвалы.
Тут стали разносить угощение — причудливо изогнутые ракушки, из которых торчали разноцветные листочки, прозрачных насекомых с длинными красными усиками, маленькие синие комочки и прочие кулинарные изыски. Вася, который уже поел и выпил, стал рассказывать Марусе, как его угощали самым вкусным в его жизни ужином — это было в Париже в одном шикарном ресторане, и там ему принесли огромное блюдо с разными дарами моря, и он все ел, ел, а в конце принесли крошечную ракушку, и в этой ракушке находился маленький червячок, и Вася такой длинненькой остренькой серебряной вилочкой извлек этого червячка и отправил себе в рот. «Так вот, дорогая, это и было самое вкусное! Такого я ни до, ни после никогда не ел!»
Все гости, присутствовавшие на вечеринке, угощались от души, ничего не ела только тощая актриса, подруга Люка Бессона, она все загадочно осматривала всех с головы до ног, а на лице ее застыла зловещая улыбка. Денис с огромной тяжеленной камерой на плече сновал туда-сюда между «звезд» и все снимал, снимал, снимал…
Вечеринка завершилась где-то к четырем часам утра, правда, Маруся ушла значительно раньше, так как знала, что завтра ей все равно придется вставать в восемь. Утром Вася рассказал Марусе, что в конце концов все так перепились, что заблевали весь павильон и даже весь пляж впридачу, хорошо, что Вася соблюдал меру и сохранил человеческий облик.
Вася, когда они только приехали в Канны с Марусей и Светкой, как-то вдруг сказал Марусе, прихорашиваясь перед зеркалом: «Интересно, что обо мне будут здесь все говорить — приехал, поселился в номере с двумя бабами. С ума сойти можно!» — и радостно захихикал, лукаво подмигивая Марусе.
Они действительно поселились в двухкомнатном номере. Сначала Светка со всеми чемоданами и сумками прошествовала в спальню, а Марусе предложила располагаться в гостиной, там было светло, большие окна открывались на море, и был даже выход на балкон, при этом стекла были такие чистые, что Маруся едва не разбила себе лоб, потому что устала с дороги, не выспалась и была без очков, и ее внимание было рассеяно, она решила, что там нет стекла, пошла на балкон и врезалась лбом прямо в стекло, но, к счастью, оно не разбилось. Раздался глухой удар и Вася с беспокойством выглянул из соседней комнаты, потому что платить бы пришлось ему. Тут же была электрическая плита, холодильник и стол — такая мини-кухня, чтобы готовить. Маруся только начала разбирать свой чемодан, как вдруг дверь спальни с шумом распахнулась и на пороге с сумкой в руке мрачнее тучи возникла Светка. Она молча прошла к дивану и швырнула на него свою сумку. «Я передумала, — сообщила она Марусе — мы с Васькой будем здесь, а ты давай-ка, перебирайся туда, подруга!»
Там оказалось гораздо хуже — правда, была большая двуспальная кровать, но зато окна были очень маленькие, узенькие, затемненные шторами, и выходили они во внутренний двор отеля, откуда постоянно доносились голоса горничных и прочей гостиничной обслуги. Вася сразу ввел Марусю в курс ее обязанностей.
Каждое утро, пока они со Светкой еще спали, она должна была отправляться в Фестивальный Дворец за билетами для съемочной группы, правда, перед этим она могла спуститься в кафе при отеле и позавтракать, завтрак входил в стоимость номера — можно было брать джем, булочки, масло, сок, кофе, чай и даже мед.
Фестивальный дворец представлял из себя огромную конструкцию из стекла и бетона, внутри многочисленные лестницы вели в холлы, фойе и конференц- и кино-залы, было множество выходов на террасы и балконы, откуда открывался прекрасный вид на море, снаружи дворец был весь обвешан огромными плакатами, украшен цветными флагами и полотнищами яркой материи, вокруг росли настоящие пальмы, и по вечерам разноцветные прожектора освещали каждый закуток так, что он превращался в таинственный и прекрасный сезам.
Вечером, когда Вася, Маруся, видеоинженер Глебов и оператор Денис отправились снимать открытие фестиваля, их машина проехала через тройное оцепление, при каждом проезде охранники требовали предъявить документы и разрешение на въезд, в конце концов, они припарковали машину в подземном паркинге, и, протиснувшись сквозь густую разноцветную толпу, оказались у лестницы, при входе на которую у них еще раз проверили аккредитации. Они оказались на середине довольно-таки длинной лестницы, устланной красным ковром, и сверху им было видно, как к дворцу подъезжают длинные черные «мерседесы», из которых выходят кинозвезды и режиссеры, в экзотических блестящих платьях, фраках и смокингах, украшенные причудливыми драгоценностями и цветами. В самом низу лестницы расположились фотографы, со своими громоздкими камерами и вспышками, все они были во фраках, потому что даже журналисты должны были быть в вечерних нарядах: мужчины — во фраках или смокингах, дамы — в вечерних платьях, иначе их просто не подпускали ко дворцу.
Маруся однажды отправилась на просмотр в джинсовой юбке и футболке, и ее чуть не задержали при входе: охранник скептически оглядел ее с ног до головы и, снисходительно хмыкнув и пожав плечами, уже собирался отправить ее назад, однако, к счастью, следовавшая сразу за Марусей шумная толпа каких-то японцев отвлекла его внимание, и ей удалось быстро-быстро проскочить вперед и затеряться среди остальных зрителей.
Фотографы шумными воплями приветствовали каждую выходившую из автомобиля кинозвезду, на которую тут же обрушивался залп вспышек, приветствий и воздушных поцелуев. Знаменитые актрисы какое-то время позировали у подножья лестницы, принимали красивые экстравагантные позы, потом медленно, придерживая рукой шлейф вечернего платья, поднимались вверх по красному ковру. После окончания просмотра «звезды» тем же путем выходили из фестивального дворца, и тут можно было сделать самые интересные и необычные кадры, поэтому фотографы ждали у ограждения, выставленного у подножья лестницы, до позднего вечера.
Маруся с Васей и Светкой после просмотра фильма вышли к освещенному яркими огнями входу во Дворец, здесь не было белых ночей, небо было уже совершенно черным и это производило какое-то противоестественное впечатление на Марусю, потому что был май. Маруся находилась под впечатлением после просмотра фильма про совершенно отъехавших наркоманов, причем режиссер снимал их с явным знанием дела, в результате у Маруси осталось ощущение, будто она сама наелась каких-то сильнодействующих психотропных средств. На короткий миг у нее возникло чувство, что она находится между двумя слоями воды — тяжелым и легким, она лежала в тяжелой воде, а над ней текла легкая, ее струи были хорошо видны, блеклых пастельных тонов, перетекая одна в другую, они шли над ее головой, и их движение завораживало и уносило далеко, как можно дальше, но Маруся не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, даже глаза закрыть она была не в состоянии, да ей этого и не хотелось. И в таком состоянии она и вышла вместе с Васей и Светкой из дворца, медленно спустилась по широкой красной лестнице и встала внизу у ограждения вместе с фотографами. Она впала в состояние ступора и никак не реагировала на восхищенные возгласы и обращенные к ней вопросы Светки, которая толклась рядом, не в силах адекватно выразить вполне все свое восхищение от происходящего вокруг:
— Нет, здорово, как это здорово! Просто замечательно!
Вася же улыбался с легким презрением и загадочно молчал.
— Ну что ж, девушки, — произнес он, обращаясь к своей жене и Марусе, — пойдемте!
— Нет, Васька, давай постоим, давай подождем, сейчас они должны все выйти! Нет, я просто не могу, как это все же здорово! — все время повторяла Светка.
-А все уже и вышли, дорогая,- неожиданно сказал Вася, — и стакан и лимон, все…
***
Из отечественных фильмов Марусе запомнился только один, показанный во внеконкурсной программе среди режиссерских дебютов. Фильм назывался «День ВДВ». Это была дипломная работа выпускника ВГИКа по фамилии Костенко. В одном из крошечных залов на авеню дю Доктер Пико неподалеку от фестивального дворца было очень душно, правда, на утренних сеансах обычно присутствовали всего несколько человек, может быть, потому, что сеанс начинался очень рано, в 8.30 утра — программа фестиваля была сильно перегружена и надо было как-то успеть втиснуть всех. Вася со Светкой еще спали, Маруся слышала доносившийся из соседней комнаты храп. Она спустилась в кафе, быстро выпила чашку кофе и почти бегом направилась вниз по узенькой улочке — от их отеля Фелибриж до кинозала было примерно полчаса ходу.
Действие фильма разворачивалось практически без диалогов, только случайные реплики и возгласы, хотя фильм был явно игровой, но был стилизован под документальный. Поначалу ранним утром плечистые молодые люди брились, принимали душ, напяливали на себя перед зеркалом тельники, ордена, гвардейские значки, тщательно начищали ботинки, потом они встречались с друзьями, собирались группами в центре Москвы, у метро, на Тверской, и в районе парка Горького. Все били друг друга по плечу, радостно обнимались, долго похлопывали по спине. Некоторые из них были с девушками, тоже в синих беретах и тельняшках или накинутых поверх легких ситцевых платьиц военных мундирах. Светило солнце, был жаркий летний день, поэтому некоторые из молодых людей почти сразу стащили с себя тельники, обнажив свои волосатые груди и животы, причем у многих десантников эти животы оказались солидных размеров и свисали над ремнями поверх брюк. Десантники пили пиво у ларьков и непринужденно беседовали между собой. Те, что собрались в парке Горького, примостились прямо на газонах и распивали спиртное, дружно чокаясь или опрокидывая рюмки по-гусарски, поставив их на тыльную сторону руки. Со всех сторон доносились звон гитар и обрывки песен, главным образом про «синеву небес», которая продолжает «манить к себе». Чуть поодаль чинно прогуливались группы седых ветеранов Отечественной войны, увешанные орденами и медалями. Вдруг какой-то обнаженный по пояс амбал с волосатой грудью и невероятных размеров свисающим животом приблизился к ветеранам и, неожиданно обхватив своими ручищами двух сухоньких старичков, поднял их над землей и начал так с ними вращаться вокруг собственной оси, старички беспомощно дрыгали ножками, но потом, когда десантник опустил их на землю, выглядели очень довольными, долго жали десантнику руку и что-то напутственно ему говорили. А находившийся неподалеку высокий старик, тоже весь в орденах и медалях, даже умильно смахнул набежавшую слезу.
В этот момент сразу несколько из присутствовавших в зале зрителей встали и с шумом направились к выходу. Маруся тоже хотела выйти вместе с ними, но потом передумала, так как вдруг вспомнила, что накануне она мельком видела режиссера: это был худенький темноволосый юноша в очках с утонченными манерами, чем-то похожий на Алешу Закревского, который напечатал в своем журнале несколько марусиных рассказов. Впечатление, которое он на нее произвел, очень плохо соотносилось с тем, что сейчас Маруся видела на экране.
Тем временем, к группе десантников, стоявших у пивного ларька, привязался бомж: маленький шустрый, весь взъерошенный, с лиловым носом и недельной щетиной на лице. Один из десантников добродушно дал ему глотнуть из своей кружки и повернулся к своим товарищам, однако тот снова забежал спереди и, оживленно жестикулируя, стал выражать ему свою признательность, и даже попытался его обнять. Десантник повернулся к нему сначала боком, а потом опять спиной, но бомж опять возник перед его носом, десантник снова дал ему отхлебнуть из своей кружки, хотя уже менее добродушно, бомж опять принялся его бурно благодарить, наконец десантник не выдержал и оттолкнул его от себя рукой в грудь — мужичок едва устоял на ногах, но, тем не менее, снова пошел к десантнику, тогда тот снова оттолкнул его рукой в грудь, но уже изо всей силы, с явным раздражением, бомж отлетел в сторону и, споткнувшись о поребрик, растянулся на газоне, картинно раскинув руки в стороны…
ttt1: 571
А между тем, у центрального фонтана парка Горького собралась уже целая толпа разгоряченных молодых людей. К фонтану их не пускало милицейское оцепление, которое они некоторое время безуспешно пытались прорвать, правда, делали они это как-то вяло и как бы нехотя. Некоторые из десантников о чем-то оживленно беседовали с милиционерами, некоторые даже пытались их дружески обнять. Наконец несколько человек, сцепившись локтями, спинами оттеснили милицию, и в образовавшийся коридор тут же бросился огромный жирный мужик лет сорока, тоже голый по пояс, добежав до фонтана, он подпрыгнул и, перевернувшись через голову, со всего размаху плюхнулся в воду, подняв в воздух целый столб брызг. С другой стороны маленький юркий юноша в тельняшке пролез у милиционера между ног и тоже с диким визгом и хихиканьем прыгнул в воду. Потом еще несколько человек друг за другом прорвались к фонтану через оцепление. Добежав до воды и очутившись в ней, каждый из них победоносно вскидывал вверх руки и под одобрительные крики и гиканье своих товарищей возвращался в строй.
Дальнейшие события фильма развивались стремительно и неожиданно, особенно с наступлением сумерек и темноты. Как-то незаметно безобидная возня и толчея на газонах переросла в настоящую оргию, не менее впечатляющую, чем сцены знаменитых оргий из «Сатирикона» Феллини. Сразу два десантника прижали к дереву визжащую полураздетую девицу, повсюду на траве валялись пары и группы переплетенных и извивающихся в самых невероятных позах тел, а у опустевшего фонтана жирный волосатый десантник трахал в зад тощего милиционера, который пытался слабо, больше для видимости, сопротивляться… Особенно Марусе запомнилась сцена, где на клумбе среди цветов накрашенная грудастая девица в короткой юбке и прозрачной блузке, стоя на коленях, делала минет здоровенному мускулистому мужику, рядом, сидя и стоя, за ними наблюдали еще несколько человек. Время от времени девица отстранялась, и тогда на экране крупным планом появлялся огромный член, к которому с любопытством и подчеркнуто серьезной миной на лице склонялся один из присутствующих, а в это мгновение кто-нибудь обязательно слегка отклонял член в сторону, и тот, упруго выпрямившись, под дружный смех окружающих ударял по лбу слишком близко наклонившегося к нему зрителя. Член был совершенно невероятных размеров, и Маруся даже подумала, что он не настоящий, а специально увеличен при помощи какого-то трюка, компьютерной графики или чего—то еще. В нескольких метрах от этой группы еще трое парней в тельняшках мочились на лежащую в луже блевотины девицу. Смех, пьяные возгласы и стоны слились в однообразный гул. Чуть поодаль милиционеры волоком затаскивали нескольких слабо дрыгающих руками и ногами молодых людей в милицейскую машину. У входа в подземный переход метро двое едва держащихся на ногах десантников тащили на себе своего полностью потерявшего ориентацию в пространстве товарища. Береты у всех троих по-прежнему были на голове и только сильно съехали на затылок…
Заканчивался же фильм кадром, запечатлевшим разбросанные по парку неподвижные тела в форме, освещенные зловещим светом луны, как на поле боя после яростного сражения. По неподвижной зеркальной глади ночного пруда скользили два белоснежных лебедя.
***
— Я думаю, что больше ты этот фильм никогда не увидишь, — сказал Вася после того, как Маруся вкратце передала ему содержание увиденного накануне фильма. «И вообще, представь себе афишу «День ВДВ или хуем по лбу»! Неплохо смотрится, не правда ли? А об этом твоем Костенко я уже слышал, точнее, мне пересказывали его пьесу «Дом», которую он представил в одном из сырых московских подвалов, где обосновался его захолустный театрик-студия.
В этой пьесе два каких-то мудака с идиотическими добрыми улыбками на лицах долго морочат головы зрителям, подсаживаются в скверах к пенсионерам, предлагают им то сыграть в шашки, то забить «козла», и при этом ненавязчиво расспрашивают их об обитателях соседнего дома, кто к кому приехал в гости, нет ли там у кого знаменитых родственников, и т.п. Например, как там тетя Клава, которая приехала к дяде Ване из Сибири и привезла ему клюквенное варенье… И всю эту дребедень зрители, по преимуществу молодежь, разные там панки и рейверы, должны были наблюдать в течение двух часов, да еще в сыром холодном подвале, удовольствие, сама понимаешь, сомнительное, так что далеко не все выдерживали до конца, когда на сцену опускался занавес с намалеванным на нем многоэтажным домом. И тут из-за кулис раздавался звук оглушительного взрыва, символизирующего тот факт, что этот дом, о котором шла речь, в конце концов взлетел на воздух…
Маруся невольно рассмеялась.
— Ну какая ты все-таки циничная, дорогая! — сказал Вася.
Ему самому все это не казалось смешным, так как он не видел в страданиях невинных людей повода для подобных шуток. Не говоря уже о том, что весь этот соцарт и концептуализм сейчас попахивают нафталином, ведь это же не искусство, а какой-то растянутый на два часа анекдот…
Но если уж на то пошло, то Вася знал историю покруче.
Один молодой гений, вроде этого Костенко, к тому же, сын известного режиссера, год назад предложил очень влиятельному продюсеру сценарий об ограблении банка. Сценарий был так лихо закручен, с любовной интригой, реками крови и прочими атрибутами жанра, что продюсер пришел в полный восторг и уже даже нашел под него бабки, причем немалые, ведь снять фильм — это не шутка. Более того, он уже обзвонил нескольких своих приятелей-актеров и натрепал им, что у него для них есть замечательное предложение. Папаше сценариста он тоже позвонил и выразил ему свое восхищение его сыном, причем совершенно искренне, больше всего ему нравилось, что сын известного режиссера, которому он и так был не прочь угодить, выдал такой замечательный сценарий. Но дело в том, что продюсер как-то по своему недомыслию умудрился не дочитать сценарий до конца. А в конце там, после всех тщательно и живописно описанных сцен убийств, интриг и интрижек, столь же тщательно выверенных диалогов, живописных и достоверных деталей из жизни отечественных бандитов, т.е. всего того, что привело его в такой восторг, так вот, в финале фильма, когда грабители наконец-то с большим трудом вскрывают заветный банковский сейф, они там обнаруживают вовсе не пачки долларов или драгоценности, а маленькую шоколадку «Ш.О.К.» и тут, по сценарию, на экране должна была появиться огромная надпись «ШОК — это по-нашему!», — и все, на этом все повествование резко обрывалось.
Продюсер, когда обнаружил этот финал, пришел в такую ярость, что, говорят, чуть не убил сценариста, ведь он столько сил потратил на добывание денег и даже влез в долги… И самое главное, этот шутник поначалу, вроде бы, согласился довести повествование до логического конца и под этим предлогом забрал единственный экземпляр сценария, а потом уперся и наотрез отказался менять концовку, так что фильм пришлось похоронить. Маруся опять рассмеялась.
***
Маруся договорилась встретиться со Светиком у Петропавловской крепости, Светик явился в длинной юбке стального цвета, причем оказалось, что это юбка-брюки, в небольшой меховой накидке, прозрачной кофточке и с большим зонтом с деревянной ручкой. Он тут же схватил Марусю под руку, и они пошли по пляжу, увязая в песке, а Светику со всех сторон кричали: «ШурА, ШурА!»
— Это они меня принимают за ШурУ, меня часто путают с этой эстрадной звездой, — пояснил Светик.
У Светика с собой в сумке была початая бутылка водки, и он периодически из нее отхлебывал, стояла ужасная жара, они пошли пешком через Тучков мост, потом — мимо Ростральных колонн, потом перешли через Дворцовый… В тот день проводился пивной фестиваль, вся Дворцовая площадь была уставлена зонтиками, под которыми в тени скрывались столики, за ними сидели люди и пили пиво, пьяные толпы бродили по Дворцовому мосту и обратно, движение было перекрыто, а в фонтане у Эрмитажа с визгом купались полуголые молодые люди. Светик чувствовал себя не очень хорошо, он периодически просил Марусю присесть и отдохнуть, у кинотеатра «Баррикада» он заявил, что нужно сюда зайти, что здесь работает его друг, который наверняка угостит их, поведет в ресторан, но друг, по словам сидевшей у входа старушки, уволился уже полгода назад. После этого Светик в полном отчаянии стал вопить:
— Хочу гулять! Белые ночи! Хочу ужин в ресторане при свечах, хочу коктейль с джином! — и уселся прямо на тротуар.
— Слушай, Маруся, давай зайдем в самый дорогой ресторан, ты заказываешь на полную катушку жратвы и выпивки, а потом, когда официант приносит счет, ты показываешь на меня и говоришь — Он заплатит за все! — и уходишь! Давай, а? — и тут Светик неожиданно повалился прямо на асфальт у стены дома, закатил глаза и захрапел.
Мимо шли люди, некоторые оглядывались, некоторые с интересом осматривали сперва Светика, а потом стоявшую рядом Марусю и хихикали. Маруся попыталась поймать машину, чтобы довезти Светика до дому, но никто не хотел останавливаться, очевидно, они боялись, что Светик обгадит им машину или сделает что-нибудь неприятное. К счастью, мимо проходил бородатый мужик с девушкой, он узнал Светика:
— Господи, это же Семицветик, что это с ним?
Может, вам помощь нужна?
Маруся сказала, что, конечно же, нужна, и он помог ей поймать машину.
Светик только что вернулся из Тамбова, куда его пригласил начинающий бизнесмен Костик Тютюник, сынок местного тамбовского воротилы. Правда, Костик считал, что Светик тоже очень богатый, что у него много баков, сам Светик ему основательно мозги заебал, он рассказывал ему, что он — известный художник, актер и журналист, печатающийся на всех языках мира, что ему скоро должны перевести на счет десять тысяч баксов только за его небольшую фотографию, недавно опубликованную в журнале «Вог», а Костик уши развесил и всему верил, каждому его слову. Тем временем, Светик набрал у него бабок, жрал за его счет, покупал себе туфли, тряпье и косметику, а Костик все ждал, когда же Светик получит эти долгожданные бабки и рассчитается с ним за все. Но постепенно стало ясно, что денег Светику ждать неоткуда, во всяком случае, у Костика возникли такие подозрения, и он решил Светика немного попугать, потому что до конца он, конечно, не был уверен, что Светик его наябывает, но исключительно для проверки он приказал своим людям Светика немного побить и приковать его наручниками к батарее, пусть он так посидит и подумает… Светик так сидел два дня, за ним наблюдали охранники, но Светику как-то удалось склонить одного охранника на свою сторону, удалось его разжалобить, и охранник его отпустил, отцепил его от батареи, и они вместе со Светиком бежали. А перед тем, как свалить, Светик оставил там прямо на подоконнике статью, в которой описал самого Костика и всех его друзей, подруг и охранников, чтобы Костик не сомневался в том, что на самом деле имел дело с известным журналистом.
***
Музыкально-поэтический салон «Новые дикие» находился в двухкомнатной квартире на втором этаже типового дома неподалеку от Суворовского проспекта. Маруся шла однажды по Суворовскому проспекту и вдруг неожиданно перед ней возник Алексей Б., который в каком-то неистовом бурном порыве схватил ее за руку и потащил в неизвестном направлении, таким образом впервые она и попала в эту квартиру, где в тот день «дикие» были в полном составе, так как праздновали день рождения Степанова — хозяина квартиры и одновременно их неформального лидера.
Едва они вошли в комнату и скромно присели к столу, еще не успев отогреться, потому что на улице было довольно холодно, как вдруг незаметно подкравшийся сзади к сидевшему на табуретке Алексею Скворцов, второй человек среди «диких», неожиданно опрокинул ему на голову здоровенную лоханку с тестом. Алексей сначала весь дернулся, попытался вскочить, так как он вообще был очень нервный, но потом сразу же сел, покорно сложил руки на колени, склонил голову вперед и со смирением стал ждать того, что последует дальше. Тем временем Скворцов аккуратно размазал все тесто по голове Алексея, включая его лицо, волосы, затылок, после чего она превратилась в огромный белый шар, как у снеговика, судорожным движением челюсти, лихорадочно открывая рот, как задыхающаяся рыба, Алексей в конце концов сумел-таки проделать себе отверстие для воздуха, а между тем Степанов уже притащил из кухни увесистую морковку, которую тут же воткнули в тесто на месте носа Алексея, теперь сходство со снеговиком стало практически полным. Третий же «дикий», Отрубев, уже притащил из ванной алюминиевый таз и, важно сев на стул посредине комнаты, стал раскладывать перед собой на стоявшем тут же деревянном ящике ноты, таз он поставил себе на колено и застыл в неподвижности, и только после этого один из «диких», кажется, Скворцов, а может быть, и Степанов — потому что Алексей, когда они вошли, мельком представил ей всех троих сразу, и Маруся уже успела окончательно забыть, кто из них кто — начал разъяснять Марусе и Алексею, что, собственно, происходит, и это были первые слова, которые прозвучали за все это время, потому что все эти действия совершалось в полной тишине, а когда они пришли, с ними даже никто не поздоровался.
Оказалось, что этот день был не только днем рождения Степанова, но еще и днем полнолуния, и сейчас Отрубев исполнит гостям «Лунную сонату», которая была написана ими совместно, специально к этому знаменательному событию, а все, что было проделано с Алексеем, было сделано для того, чтобы создать у слушателя необходимое настроение для восприятия их музыки. В этот момент Маруся очень про себя порадовалась, что о создании подобного настроения у нее хозяева салона будто бы позабыли, а может быть, они думали, что им и так уже удалось настроить ее на соответствующий лад, и, в общем-то, это было верно. После этого Отрубев, внимательно уставившись на лежащие перед ним ноты, стал методично стучать какой-то деревянной палкой по стоящему у него на коленях тазу, причем проделывал он это с удивительным упорством и методичностью, по крайней мере, в течение получаса, во всяком случае, так показалось Марусе. Каждые три минуты стоявший рядом с ним Скворцов заботливо переворачивал страницы нотной тетради, Алексей же все это время покорно сидел на табурете, сложив руки на коленях, и не шевелился. Наконец соната закончилась, Степанов и Алексей бурно зааплодировали, пришедшая из соседней комнаты жена Степанова стала сдирать с головы Алексея слипшееся тесто, это ей удавалось с большим трудом, поэтому ему на какое-то время пришлось даже удалиться в ванную. Минут через пять он вбежал в комнату розовый, умытый и веселый, и беззаботно прыгнул на свою табуретку рядом с Марусей, однако, не успел Алексей по-настоящему расслабиться, как проходивший в это время мимо него Скворцов вдруг опять резко повернулся в его сторону и со всего размаху разбил о его голову яйцо. Правда, после этого он стал извиняться перед Алексеем и объяснять это тем, что он просто забыл сделать это в то время, когда у него на голове было тесто, и поэтому был вынужден сделать это несколько позже, так как все это уже было записано у них в нотах, и без этого «Лунная соната» не могла считаться полностью исполненной, а премьера — состоявшейся… Алексею снова пришлось отправиться в ванную.
После этого Степанов даже принес фотоаппарат и сфотографировал Алексея на память, потом Алексей сфотографировал Степанова, Отрубева и Скворцова, сначала всех по очереди, а потом вместе, затем уже Отрубев сфотографировал Алексея со Скворцовым и Степановым, потом Степанов сфотографировал Отрубева с Алексеем и Скворцова с Отрубевым, так они фотографировали друг друга в течение пятнадцати минут, не менее, пока все возможные комбинации не были исчерпаны, после чего наступила небольшая заминка, и Отрубев, тщедушный юноша с тонкой шеей и огромной головой на хрупком теле, на какое-то мгновение застыл с фотоаппаратом в руках, вопросительно посмотрев на Степанова. «Ну что, — сказал он, — кого еще сфотографировать?» Степанов тоже на какое-то мгновение задумался, а потом громко и со значением произнес: «Ну что, сфотографируй еще раз Алекса, здесь ведь больше некого фотографировать!»
***
Мама постоянно говорила Марусе, чтобы она устроилась работать, перестала болтаться без дела, она вообще не понимала, чем Маруся, собственно, занимается и на что она живет, к тому же Марусе действительно часто приходилось просить у нее деньги взаймы, и почти никогда она их ей не отдавала. Стоило маме увидеть в какой-нибудь газете объявление о выгодной, на ее взгляд, работе секретаршей, референтом или менеджером, как она тут же срочно звонила Марусе и предлагала ей обратиться по указанному там адресу, мама также постоянно сообщала Марусе о всевозможных конкурсах, отборах, тестированиях, которые настоятельно советовала ей пройти, чтобы определиться и твердо встать на ноги. Марусины публикации в газетах, особенно московских, конечно, имели в ее глазах определенный вес, к журналистской деятельности Маруси она относилась с наибольшим уважением, что касается остального, переводов и особенно ее романов, то все это представлялось ей совершенно никчемным.
Мама также постоянно ставила Марусе кого-нибудь в пример, чаще всего, это была какая-нибудь баба, примерно одного с Марусей возраста, достигшая, на ее взгляд, наибольших успехов и материального благополучия, видимо, пример марусиной сверстницы казался ей наиболее убедительным и доходчивым. Такие же примеры мама часто приводила Марусе, еще когда та училась в школе, тогда она чаще всего указывала ей на Галю из соседнего подъезда, отвратительную тупую девочку с лягушачьими губами, Галя была отличницей, Маруся, правда, тоже училась неплохо, но зато Галя не лазала по подвалам, не общалась с грузинами, не воровала в магазинах, не курила и не являлась домой пьяной…
Потом, с годами, образцы для подражания периодически менялись, так как каждая из приводимых Марусе в пример героинь через какой-то промежуток времени оказывалась не столь совершенной, как маме казалось первоначально, она находила в ней какой-то изъян, или у той что-нибудь случалось в жизни, какая-нибудь неурядица или катастрофа, и постепенно ее место занимала другая. Так Галя, например, которую мама чаще всего приводила Марусе в пример в детстве, работала сейчас в школе учительницей и месяцами не получала зарплату, развелась с мужем и жила одна с ребенком, все это теперь уже не казалось маме особенно привлекательным, и она даже забыла о ней думать.
Еще два года назад мама постоянно ставила в пример Марусе дочку ее школьной подруги Лику, ту самую, которая порекомендовала ей Соловьева-Разбойника и которая, по ее мнению, «цвела и пахла». Лика была даже лет на пять младше Маруси, поэтому ее пример казался маме еще более ярким и убедительным. Лика училась вместе с Марусей в школе, маленькая черненькая девочка с черными блестящими глазками, ее мама, Эллочка, дружила с марусиной мамой, и Эллочка рассказывала всем, что ее дед был болгарин, Васил ПОпов, причем не Попов, как у русских, а именно ПОпов, с ударением на первом слоге. Раньше Эллочка шила Лике разные наряды, то Красной Шапочки, то Золотой рыбки, то Хозяйки Медной Горы…
Потом Лика выучила итальянский язык и устроилась работать в фирму «Версачче», затем оформила фиктивный брак с пожилым итальянцем и купила себе квартиру на Фонтанке. Она сделала там евроремонт, мебель купила всю черную, а паркет сделала наборный, из ценных пород дерева, еще она купила себе собаку чау-чау, и с этим щенком занималась Эллочка. А когда чау-чау повредила себе лапку, Эллочка стала промывать ей рану, и собака вдруг как вцепится ей в руку, полруки отхватила, Эллочка после этого случая даже боялась к ней подходить и просила Лику ее усыпить, но той было ее жалко. Помимо квартиры на Фонтанке с ванными и джакузи, она еще построила себе трехэтажный каменный дом в Комарово и разъезжала по городу на «БМВ» с личным шофером.
Однако пару лет назад Лика поехала в Италию рожать ребенка от своего нового любовника, и там вдруг выяснилось, что ей не только нечем заплатить за услуги врачей в родильном доме, но и не на что купить ребенку даже детское питание и подгузники, тем более она не могла вернуться обратно, так как у нее не было даже билета, и Эллочка, ликина мама, бегала по всем знакомым и занимала у них деньги, чтобы срочно помочь Ликочке с ребенком. Фирма, в которой работала Лика, неожиданно разорилась, и деньги, которые должны были ей перевести на ее счет в Италии, так и не пришли, более того, владелец фирмы, итальянец, скрылся в неизвестном направлении, и теперь его разыскивала чеченская мафия, так как за фирмой числилось огромное количество долгов. По ходу всех этих глобальных событий, когда Эллочка у всех, в том числе и у марусиной мамы, занимала деньги, выяснились еще всякие мелочи. Например, что новый любовник Лики периодически ее бил и всячески Эллочку третировал, сама же Лика оказалась чуть ли не законченной алкоголичкой, все эти внезапно выяснившиеся факты сильно подмочили репутацию Лики в глазах мамы.
Правда, Лика опять неплохо устроилась, у нее теперь было целых два любовника — Юра, глава тамбовской группировки, и Хамат, лидер питерских чеченцев, они обеспечивали крышу для ее совместной российско-итальянской фирмы, на сей раз торговавшей мебелью, кроме того Лика открыла магазин на Литейном, где продавала итальянское женское белье, кружевные трусы, лифчики, боди, корсеты. Тут она завела себе нового любовника — Венедикта, он контролировал всю питерскую проституцию, а замуж выйти она решила за Магомеда, чеченца, потому что Магомед мог обеспечить ей надежную защиту. Вскоре на Лику стали наезжать какие-то люди, требовали отстегивать им бабки, создавалось впечатление, что ни Юра, ни Хамат, ни Венедикт, ни Магомед ни фига не делают…
***
Статья, которую Светик оставил у Костика на батарее, предназначалась, якобы, для одного из московских журналов, и ее действительно могли бы напечатать и в «ПТЮЧе», и в «ОМе», потому что Светика там все знали, но только кому там этот Тамбов интересен, да и статья получилась слишком объемная. Но Светик все равно ее написал, а черновик как будто случайно забыл у Костика, пусть почитает, а может быть, даже и вслух, своим братьям по разуму. Там ведь и Гоголя-то, наверное, никто не знает, поэтому Светик очень хорошо себе представлял немую сцену, которая последует за публичным чтением этой его «статьи» в кругу тамбовской братвы. Они ведь, кажется, все хотели прославиться, а теперь они уж точно войдут в историю. А для того, чтобы Маруся эту картину себе лучше могла представить, он эту «статью» ей тут же вслух со своими комментариями зачитал.
Для затравки Светик начал свою статью с лингвистических штудий, для солидности, чтобы больше на серьезную статью было похоже:
«В Москве фарцовщиков называют утюгами, а фирму, которую они опускают — «отутюженными», так и говорят — «вот отутюженный идет», или «хорошо его отутюжили». В Питере фарцовщиков раньше называли «центровики», а вот фирмачей, которых они кинули, «отцентрованными» никогда не называли, и тем более, никогда не говорят: «Вон отцентрованный идет, или „хорошо его отцентровали“, в Питере лохов просто „кидают“ и „опускают“, как и в любом другом месте нашей необъятной родины. А в Архангельске фарцевать называется „бомбить“, и фарцовщики там, соответственно, „бомбисты“, как рэкетиры повсюду „ракетчики.“ Ну а в Воронеже фарцовщиков никак не называют, их там просто нет, потому что „фирмы“ там отродясь не было, это ведь не Золотое Кольцо, даже не Новгород или Владимир с их памятниками древнерусского зодчества, здесь одни местные, одни аборигены только, only , зато слово „жлобы“ пошло именно из Воронежа, тамошних жителей так раньше называли, ну как „скобарей“ из Пскова, и в Тамбове фарцы тоже нет, и даже словом никаким этот город не знаменит, разве что поговоркой „тамбовский волк тебе товарищ“, то есть это такая глухая дыра, что этот город даже переименовать после революции забыли…»
После этого Светик вскользь коснулся замечательных пейзажей на берегу реки Цна, памятника Ленину в центре, дворца культуры «Юбилейный», задолженностей по зарплате на заводике по производству подшипников, в общем, всего того, о чем и должен писать журналист солидного столичного издания. И только после этого он постепенно перешел к тому, ради чего все это и затеял, то есть к описанию тамбовских жлобов, которые его там больше всего достали, хотя слово «жлобы» и воронежского происхождения, но местные волки и товарищи его вполне заслужили, потому что таких жлобов, как там, он в своей жизни больше нигде не видел.
Начал он с аспиранта местного филиала московского института культуры Константина Тютюника, который зажал ему обещанный гонорар за фотосъемку и даже билеты на поезд не оплатил. Тютюник в его «статье» представал перед читателями в качестве банального украинского националиста, превратившего помещение вверенного ему учреждения культуры в перевалочный пункт по доставке оружия и наркотиков чеченским боевикам, его он особо выделил, за особые заслуги, так сказать. А об остальных ему даже и выдумывать ничего не нужно было, он просто описал все, как было в действительности, чтобы особо не напрягаться, им и этого будет достаточно, ведь они, когда над ним измывались, наверняка думали, что трудятся на благо своего родного города и отечества, потому что такие жлобы никогда не ведают, что творят…
Когда Светик приехал в Тамбов, его там встречали как короля, потому что Костик уже всем успел натрепать, что к ним едет известный столичный журналист, корреспондент модного московского журнала «Бум», которому только в этом журнале платят по десять долларов за строчку, а об иностранных изданиях и говорить нечего, поэтому у него денег куры не клюют, но дело даже не в этом, главное, что одного светикова слова было достаточно, чтобы любой местный тюфяк или блядь сразу же прославились на весь мир со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть даже Иван Петрович с местной скотобазы, с его легкой руки, без проблем превращался в Иванушку-интернейшнла, а доярка Дунька — в блестящую космическую герл.
Светику выделили пятерых охранников, они его всюду сопровождали, и ни на минуту от себя не отпускали. Потом главный человек, местный авторитет Костик, который ему дорогу обещал оплатить, повез его вместе с охранниками кататься на катере по реке, она там называется Цна, и они всю ночь песни пели, а потом приплыли в такое место, где кувшинки цветут, этих кувшинок там просто хуева туча, и что интересно, никто их не рвет, но не из-за того, что они занесены в Красную Книгу, там про такую и не слышали, а просто люди, даже местные жлобы, любят красоту, и хотят, чтобы эта красота их постоянно окружала. Светик все же решил себе одну кувшинку сорвать, полез в это болото и чуть там не утонул, хорошо, его один из охранников, Слава, вытащил.
Вмазались черняшкой, Светик чуть не помер, хотя он все это уже давно бросил, но захотелось тряхнуть стариной, что ли, вспомнить прошлое, а потом все эти наркоманы к нему на квартиру заявились. Сперва он только в компании охранников жил, но они ему все до такой степени надоели, что захотелось ему одному побыть, что-нибудь такое написать, осмыслить происходящее, и он снял себе квартиру отдельно. В квартире хозяева оставили телевизор японский, и он этот телевизор иногда смотрел, их местные программы, но это все мелочи. А вот то, что было дальше, Светик в своей «статье» со всеми подробностями описал. Потому что, когда он поехал снова на катере кататься с Костиком, кто-то этот телевизор из квартиры спер, то есть Светик приехал, а телевизора нет, наверное, эти наркоманы, которые на него тогда нависали, или же охранники, они тоже оказались суками еще теми, особенно один из них, Кирюша. Он сперва к Светику подкатывал, и все на бабки раскручивал, говорил, что читал его статьи, и от них просто приторчал, а от него самого так вообще — так приторчал, что и словами сказать невозможно. А его жена, которая в магазине трудится, когда Светик послал ее за бутылкой и дал ей пятьсот рублей, вдруг вся сморщилась и говорит: «Ну разве ж это деньги!» А у самой зарплата двести рублей, и при этом рожу корчит. В общей сложности, Светик этому Кирюше выдал около двух тысяч, и все это они прожрали. Больше у Светика бабок не было, правда, он ожидал, что ему не сегодня-завтра из Лондона на счет переведут около трех тысяч баков, и тогда он с ними со всеми расплатится.
— Прикинь, Светик, — говорил ему Кирюша, когда они первое время вместе оттягивались, — три тысячи баков, это же конкретно! Вообще, когда ты их получишь, у нас все будет реально!
Светик к нему очень хорошо относился, причем безо всяких задних мыслей, совершенно искренне, и думал, что Кирюша тоже к нему так же относится, что его интересует сам Светик, а не его бабки.
Еще в Тамбове Светик познакомился с одной бабой, они с ней очень подружились, такая конкретная баба, которая держала магазин народных промыслов, у нее продавались разные брошки, ложки расписные, сарафаны с вышивкой, она все это продавала еще и за границу, и в Тамбове у нее клиенты были в основном местные новые. Светик решил ее познакомить со своим другом Джерри, у которого тоже свой магазин при гостинице «Европейская», где он тоже продает народные изделия. Она Светика первым делом спросила:
— А как ваше отчество?
Он ей ответил:
— Александрович. Святослав Александрович Лемешев.
— А как девичья фамилия вашей мамы?
Тут Светик возьми да и скажи:
— Кацман.
Она сразу вся так приободрилась и говорит:
— А моя настоящая фамилия Шнейдерман! И зовут меня
Сара!
Хотя обычно она всем говорит, что ее зовут Екатерина Сердюкова, потому что у них в Тамбове свирепствуют местные националисты, недаром ведь этот город считается одним из центров РНЕ. Так что она очень обрадовалась, что нашла в Тамбове соотечественника, да и вообще, она Светика полюбила. Ее в своей «статье» Светик почти не тронул, просто написал, что она собирается эмигрировать в Израиль.
А ведь сперва, до телевизора, вообще все было хорошо, все вокруг Светика прыгали, прогибались перед ним и угождали, охранники бегали ему за пивом, причем даже не требовали, чтобы он им деньги возвращал. Он уже тогда созвонился с известным фотографом из журнала «Вог», который собирался приехать в Тамбов на фотосессию, и там сфотографировать звезду отечественной арт-критики, Святослава Лемешева, в окружении его охранников в обнимку с самым главным Костиком. И про банк из Лондона Светик им тоже так, между делом, намекнул. Ну вот они все этого и ждали, ждали-ждали, а потом не выдержали и спиздили у Светика из квартиры телевизор. Хозяева же стали требовать, чтобы он отдал им двенадцать тысяч рублей, иначе они грозились написать на него заявление в милицию. Короче, он попал в серьезный бидон. Светик хотел, было, уехать, но его посадили под домашний арест, а все пятеро охранников постоянно крутились вокруг, контролировали буквально каждый его шаг, даже в туалет он не мог самостоятельно отлучиться, а если они все куда-нибудь выходили, его на время даже к батарее приковывали, в общем, полный пиздец.
Этих охранников Светик изобразил жизнерадостными пидорами, особенно одного, члена местного РНЕ, который его утюгом пытал, потому что он, и в самом деле, говорил таким мяукающим голосом, как кастрат, а в «статье» у Светика, он разве что не пел, и все время предлагал Светику попытать его утюгом, потому что он без этого никак кончить не мог, а специальных клубов для таких, как он, где бы он и его товарищи могли всласть оттянуться, в Тамбове, естественно, не было.
Все кругом постоянно требовали от Светика денег, ведь он же сам натрепал, что скоро из Лондона ему переведут крупную сумму, и теперь пришло время расплачиваться и за прогулки на катере, и за квартиру, и за телевизор, и за пиво. Понятное дело, что теперь Светику захотелось обратно в Питер. А Костик тем временем решил устроить банкет в честь гостя из культурной столицы России, и на этот банкет собрались все руководители местной администрации, финансовые воротилы, короче, авторитеты. И когда все уже достаточно выпили, они стали вставать и произносить речи, какие-то совершенно бессмысленные выступления, то есть целью каждого было похвастаться перед столичным гостем и привлечь к своей персоне его внимание.
Встает, к примеру, директор местного банка и говорит:
— Я хочу рассказать вам о своем сыне. Он, вообще-то, сейчас учится в Гарварде, и уже добился значительных успехов в изучении генетики, но скоро собирается приехать к нам, хотя бы ненадолго. Так вот сегодня он мне звонил и передавал огромный привет Святославу, кажется, у них даже нашлись общие знакомые… — И выпивает за здоровье Светика.
Потом встает глава местного универмага и лепит:
— А моя дочь сейчас организует конгресс молодых славистов в Париже. И она была бы счастлива видеть у себя Святослава, она, кажется, уже выслала ему приглашение по дипломатической почте. Надеюсь, Святослав, мы с вами надолго останемся добрыми друзьями, и вы, даже после возвращения в родной город, нас не забудете…
А потом встает уже человек, который вообще контролирует всю местную проституцию, и заявляет:
— А вот мой сын вообще мечтает с вами познакомиться, он уже сегодня утром вылетел из Нью-Йорка и спешит на нашу встречу. Надеюсь… — и он смотрит на свои часы, роскошный «Роллекс» — надеюсь, он скоро появится здесь. Он специальный корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» и хочет сделать репортаж о поездке Святослава в наш город.
И так по очереди все встают, и каждый рассказывает такую основательную историю про своего сына или дочь, просто сами-то они уже такие солидные папики, а их дети по возрасту, да и по интересам, как им казалось, способны были больше заинтересовать Светика.
А тем временем очередь постепенно дошла до отца Костика, который тоже сидел рядом со Светиком и своим сыном, и все выпивал и выпивал при провозглашении очередного тоста. И он тем временем основательно набрался, и, когда до него дошла очередь, встал, поднял бокал и сказал:
— А мой сын — алкоголик, наркоман, гомосексуалист, вор и извращенец. Но именно он пригласил в наш город Святослава, поэтому давайте выпьем за его здоровье!
И все так немного передернулись, но выпили, потому что не могли же они отказаться. А Костик, хоть и напился, но все равно глаз не спускал со Светика, и у дверей дежурили два здоровенных охранника, так что Светик даже и в туалет не мог выйти без сопровождения.
Светик этот банкет в своей «статье» тоже подробно описал, добавив от себя еще кое-какие подробности, которые ему Костик по секрету про каждого участника банкета сообщил. Например, что его собственный папаша, который так гордился своим сыном-педерастом, утащил с кладбища небольшую, но все равно достаточно увесистую могильную плиту, на которой было написано: «Иван Петрович Сидоров.
Ну а директор банка, добрейшей души человек, который тоже очень гордился успехами своего сына, который обучался в Гарварде, видимо, ради будущего своего любимого чада был вынужден экономить буквально на всем, поэтому он и жил в огромном трехэтажном деревянном доме на берегу реки, очень запущенном и заброшенном; а маму свою держал в подвале, то есть она сама там жила, ради внука, и ей там было очень хорошо, потому что он ее не забывал и как заботливый сын два раза в день приносил ей туда овсяную кашу в алюминиевой миске; овсяная каша очень полезна для здоровья, и его мама очень ее любила — этот факт Светик тоже мог документально подтвердить, он слышал, как его новые друзья, тщательно охранявшие его покой, с нескрываемым восхищением и пониманием обсуждали альтруизм тамбовского банкира и сочувствовали его материальным проблемам.
Далее в «статье» приводилось еще несколько фактов подобного рода, и всякий раз Светик указывал на источник, откуда им были почерпнуты сведения из жизни самых влиятельных людей Тамбова, главным образом, таким «источником» были непринужденно болтавшие в соседней комнате его заботливые друзья, причем и Марусю он уверял, что все это чистая правда, и он не добавил от себя ни слова. В заключение же Светик писал, что, несмотря ни на что, пребывание в Тамбове оставило у него самые приятные и светлые воспоминания, и он никогда не забудет тот радушный прием, который ему оказали местные жители…
Но однажды Светику как-то все-таки удалось уговорить одного из этих охранников, Геночку — он оказался очень интеллигентным юношей, не таким жлобом, как все эти остальные — и они с ним ночью убежали и спрятались на одной местной туристической базе. Геночка заплатил свои деньги за комнату, и они там с ним жили. Светик даже побрился наголо, чтобы его не узнали, потому что, оказалось, у этого Костика всюду были агенты, по всему Тамбову, и он его отслеживал. Однажды Светик шел по улице, и вдруг видит — прямо навстречу ему бежит этот самый Костик, Светик испугался, а тот мимо пробежал и его не узнал, потому что он сильно изменился за это время. Кроме того, что он побрился, он еще очень сильно похудел, потому что жрать там было нечего. У Светика вообще лицо — как белый лист бумаги, что на нем нарисуешь, то и будет, жаль, что он местного мэра очень плохо знал, никогда не видел, а то он бы в него на время перевоплотился.
Гитлер у него тоже очень хорошо получался, как-то он в военном френче и с железным немецким крестом на груди даже хотел отправиться в праздник Девятого Мая на салют, его в последний момент удержали и заставили переодеться, а то его бы точно ветераны замочили. А он в тот день все же пошел на салют, но переоделся старушкой-ветераншей, надел седой парик, юбку защитного цвета, китель, ордена своего дедушки, серые нитяные чулки, и под эти чулки сделал такие катышки, как бывает у старушек с расширением вен, и так его никто не тронул, наоборот, он даже познакомился с какими-то подслеповатыми стариками, и они вместе пили портвейн на набережной Невы. Но Гитлером в Тамбове местных жлобов тоже вряд ли напугаешь, они сами его, как в гестапо, к батарее приковали и утюгом пытать стали, а он уже давно раскололся, признался во всем, что он не журналист никакой вовсе, но ему так никто и не поверил, ведь у него такой вид, как у миллионера, Светик и сам это знал, перед ним даже в Москве и Питере мало кто устоять мог.
Недалеко от турбазы стоял старинный замок, и они с Геночкой ходили его осматривать. Местные жители уверяли, что в этот замок нельзя заходить, иначе с тобой потом обязательно случится несчастье, и ты можешь даже погибнуть, потому что в свое время там какие-то упыри замочили владельца и его жену. А Светик с Костиком как раз незадолго до этого поспорили — кто такой на самом деле был Павел Первый, Костик доказывал, что его замочила его жена, а Светик говорил, что, наоборот, это его замочил собственный сын. Они позвонили в Питер одной светиковой подруге, и она им все рассказала. Светик, естественно, оказался прав, он во время разговора попытался ей намекнуть, что и его самого тут, как Павла Первого, мочить собираются, но она ничего не поняла, подумала, что он обкурился. Кроме того, выяснилось, что Костик обожает Чехова, это был его любимый писатель. А Светик Чехову не мог простить страшного воспоминания детства. Конечно, с одной стороны, он внес серьезный вклад в отечественную литературу, но он ведь всегда исповедовал культ вуду, стоит прочитать хоть один его рассказ, и все: в этом ни у кого не остается ни малейшего сомнения! А вот у Костика такие сомнения были. Но у Чехова же все герои не люди, а какие-то реанимированные покойники: самый страшный рассказ Чехова Светик даже не мог вспоминать спокойно, все считают, что это очень смешной рассказ, а вот Светику никогда не было смешно его читать, он всегда у него вызывал настоящий ужас, это какое-то проявление чистого садизма — это где повествуется об одной писательнице, которая пришла к издателю и стала ему читать свой роман, а он все слушал, слушал, и под конец ее убил. Светик никак не мог понять, что тут смешного? Он допускал, что, может, кому-нибудь и покажется смешно, но разве что извращенцам, у них и концлагеря смех могут вызвать, и вообще человеческие мучения их развлекают.
А в тот замок все местные жители уже давно боялись ходить, потому что сперва, когда отдельные смельчаки туда отправлялись, потом их долгое время мучили страшные видения, и они вообще не могли спать. Но Светик туда все же зашел, потому что он был заговорен уже давно, он был не такой, как все люди, ведь его дед был родом из Румынии, потомок графа Дракулы, и Светику передались многие его качества.
***
Маруся должна была снова встретиться с Блумбергом через неделю и передать ему синопсис, то есть краткое изложение содержания будущего романа, о котором они с ним накануне договорились и, если он все это одобрит, то он даже обещал ей выплатить крупную сумму денег в виде аванса, а деньги ей сейчас были очень нужны: тогда бы она сразу пошла и купила себе сигарет и еды.
Поначалу Костя был категорически против этой затеи с детективом и даже заявил Марусе, что порвет с ней все отношения, если она за это возьмется. Но на следующий день его настроение вдруг резко изменилось: он сказал, что, в сущности, в этом нет ничего страшного, он даже готов сам все за нее сделать.
Конечно, Костя не сомневался, что и Маруся сможет сама без него справиться и написать вполне приличный детектив, но ему теперь очень хотелось попробовать себя в этом жанре и не просто из спортивного интереса: ему это было нужно еще и в качестве психотерапии, для его психического здоровья, так как Косте было важно проверить, достаточно ли он адаптировался к миру, и готов ли он к встрече с обыкновенным средним человеком, типичным представителем современной цивилизации в лице Блумберга, или же нет. Но Костя, конечно же, поставит на книгу имя Маруси и гонорар он тоже готов полностью уступить ей, потому что в данном случае она будет выполнять очень важную роль своеобразного амортизатора между ним и миром.
Костя не сомневался, что он без труда справится с этой задачей. Правда за всю свою жизнь он прочитал всего один детектив, кажется Жапризо, и хотя это было очень-очень давно, еще в юности, но у него до сих пор осталось от этого чтения чувство глубокой тошноты. Более того, когда много лет назад он где-то вычитал, что Ахматова всегда держала у себя детектив под подушкой, он окончательно утратил всякий интерес к ее творчеству, а она к тому же любила еще и Булгакова, «Мастера и Маргариту», ну это уж и вовсе находилось за пределами костиного понимания…
В тот момент, когда Костя говорил об этом Марусе, его лицо вдруг исказилось какой-то страдальческой гримасой, и Маруся даже испугалась, что сейчас с ним опять случится припадок злобы, но Костя сдержался, взял себя в руки и снова вернулся к тому, что он собирается делать.
В сущности, ему совсем не обязательно было читать детективы, достаточно было того, что телевизор в его комнате был почти все время включен, и он за последние годы как-то между делом успел просмотреть огромное количество детективных фильмов и триллеров, и они, в отличие от книги Жапризо, почему-то не вызывали у него никаких особых эмоций. Так что он думал, что теперь ему не составит большого труда самому состряпать нечто подобное.
Если Маруся читала «Философию поэзии» Эдгара По, например, то она, наверняка, помнит, как тот описывает свои мысли перед тем, как приступить к сочинению поэмы «Nevermore»: «каркнул ворон: Nevermore» и т .д . Сначала По задается вопросом, что является наиболее трагическим в этом мире. Самое трагическое — это смерть, тогда как самым поэтичным является «любовь». Поэтому По приходит к выводу, что сюжетом трагической поэмы должно стать не что иное, как «смерть любимой девушки»… Таким образом, Эдгар По последовательно, постепенно показывает, как он приходит к тому или иному образу своей поэмы, и ведь у него совсем неплохо получилось, не правда ли:
И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне…
Но если так можно работать над стихами, то уж над каким-то паршивым детективом, состоящим из элементарных кубиков, и подавно… Нет, Костя не собирался следовать по стопам Умберто Эко, от одного имени которого Костю тоже тошнило, он собирается написать обыкновенный, банальный детектив. И если Маруся смотрела фильм Годара «Детектив», то она должна понять, что он имеет в виду, ведь любой детектив составлен из определенного набора штампов, своеобразных маленьких кубиков, которые более или менее искушенный в этом жанре автор, как правило, переставляет, меняет местами, не особенно напрягаясь и без особого труда выдавая все новые и новые сюжетные линии и интриги, в общем, эта задача по силам и ребенку или даже компьютеру. Потому что, если эти составляющие «кубики«—штампы ввести в электронную память, то компьютер, наверняка, тоже смог бы их варьировать не хуже, чем человек.
Например, Костя заметил, что персонаж, который сначала сотрудничает с преступниками, а затем помогает полиции, должен обязательно погибнуть, как это и произошло, например, в конце «Места встречи», когда Высоцкий стреляет в убегающего бандита, а Шарапов безуспешно пытается его остановить. Этот герой должен погибнуть, потому что по законам общества его следует наказать за совершенные ранее преступления, а с точки зрения общечеловеческой морали его следовало бы помиловать, так как он помогал органам правопорядка и, вообще, теперь вызывает симпатии у читателей и зрителей. Так что наказать его — означает поставить под сомнение моральную значимость существующих в обществе законов, а оставить на свободе — значит, опять-таки, усомниться в неотвратимости наказания за преступление, поэтому автор, как правило, и вынужден такого героя просто физически устранить, как говорится, «нет человека — нет проблемы». В общем, по костиным наблюдениям, устранение такого героя практически предопределено, особенно если действие детектива разворачивается на территории таких государств, как Советский Союз или США, которые, по глубокому убеждению Кости, один другого стоили в смысле ханжества.
Однако автор вынужден устранять такого героя не только из страха общественного порицания, но еще и потому, что, оставив его в живых и поставив под сомнение законы социума, он, безусловно, утяжелил бы этот, в общем-то, такой легкий и непритязательный жанр, как детектив, отяготив его совершенно ему не свойственной и не нужной философией. А тот, кто нарушает законы жанра, не только нарушает заранее оговоренные правила игры и вызывает раздражение читателей, но еще и грешит против чистоты Стиля и Красоты, что и вовсе непростительно, так как именно Стиль в общей иерархии человеческих ценностей, как эстетических, так и житейских, безусловно, занимает, по мнению Кости, самое главное место и пока еще никто не доказал обратного.
Поэтому, например, и то, что на смену аристократии повсеместно в современном обществе приходит интеллигенция, является достаточно явным и очевидным знаком вырождения жизни как жанра, так как для интеллигенции важны ум и знания, а аристократию, прежде всего, характеризовали хорошие манеры, то есть это были люди Стиля, Костя был в этом убежден.
Именно поэтому такой аристократический мыслитель как Конфуций так много внимания уделял церемонии, которая по-китайски называется ли. И если Маруся внимательно вглядится в свою душу, то она должна будет признать — если, конечно, она сможет отбросить все, что ей так долго внушали все кругом, за исключением, разумеется, Кости, который ей ничего подобного никогда не говорил — так вот, если она вглядится в свою душу, то она должна будет признать, что кавалергард Дантес, например, на голову выше поэта Пушкина, не говоря уже о таких недоделках, как Лобачевский, академик Павлов или Эйнштейн.
Фюрер был прав, когда приказал сжечь огромное количество книг, жаль только, что он отбирал их по национальному признаку; будь его, Кости, воля, он уничтожил бы все книги, которые считал умными, потому что они оскорбляли его эстетическое чувство. Сам Костя уже давно сжег свой диплом, хотя он и признавал, что до конца избавиться от всего умного в себе ему так и не удалось, и эта «каинова печать» интеллигентности лежит на нем до сих пор. Но если бы люди все-таки смогли избавиться от ума, то тогда, возможно, человечество по-настоящему очистилось бы, а жизнь возродилась, и не была бы такой плоской и скучной, как теперь, а пока она уступает даже самому паршивому детективу, и от одной мысли об этом его тошнит больше, чем от воспоминания о чтении Жапризо…
Поэтому, собственно, Костя и решил помочь Марусе в этом неприятном деле, и помочь ей материально, раз уж он до сих пор жив, то в сравнении с этим его проступком и непростительной оплошностью написание детектива кажется ему просто детской забавой, каковой оно, на самом деле, и является.
Но хотя детектив и является детской забавой, тому, кто собирается его сочинить, не стоит забывать, что люди либо вообще не читают детективы, как, например, сам Костя, либо читают их в огромном количестве, и поэтому автор, составляя свой занимательный роман из заранее заготовленных штампов, которые по-своему, конечно, тоже должны даже радовать любителей подобного фуфла, как радует человека вкус знакомой пищи, «тот самый вкус», вкус чая или кефира, который «муж пил в детстве», так вот, автор все-таки все равно должен приготовить читателю хотя бы один неожиданный новый ход, если не в дебюте, то в конце, эндшпиле, иначе читатель может разгадать замысел книги в самом начале, и тогда ее создатель, выражаясь шахматным языком, сам получит мат, так как его книгу просто никто не будет дочитывать до конца, а значит, она не будет продаваться, а тогда вообще, для чего она писалась, не из любви же к искусству.
Тут, по мнению Кости, все внимание следует сосредоточить на личности главного подозреваемого, вокруг которого, собственно, обычно и крутится все повествование, этот последний штрих, ответ на заданную загадку, прежде всего, не должен разочаровать читателя. На этот счет у Кости тоже были свои соображения, он тут тоже кое-что успел подглядеть по телевизору, например, у Агаты Кристи, когда персонаж, который считался погибшим, вдруг в конце оказывается виновником всех бед, так как, на самом деле, вдруг выясняется, что он совсем не умер, а жив. Это как в карточном фокусе, когда из колоды, вроде бы, удаляется одна из карт, и ее там быть не должно, но потом именно на нее и натыкается изумленный зритель.
В конце концов, Костя не исключал, что и все человечество стало жертвой подобного фокуса, ведь и Христос, как известно, сначала умер, а потом, якобы, должен явиться всему человечеству и даже уже однажды явился своим ученикам, чтобы предупредить их об этом. Если такой фокус и в самом деле удастся, то для очень многих — он не сомневался — это окажется совершенно неожиданным, да, пожалуй, и для самого Кости тоже. В последнее время ему даже стало порой казаться, что и он сам тоже всего лишь лежит на диване в темной тесной комнате, а не стоит на капитанском мостике и не управляет незримыми галактиками — во всяком случае, это сомнение в последнее время стало все чаще закрадываться в его душу… Может быть, и он тоже читал раньше не те книги, и часть из них тоже предназначена для массового пользования, то есть как детективы и триллеры — для дурачков…
Ведь, например, героям Древней Греции или же Рима, Александру Македонскому, Юлию Цезарю, прежде чем попасть на страницы книг Плутарха или Светония, все-таки нужно было сначала совершить вполне реальные жизненные подвиги, завоевать мир, расширить границы империи, побеждать в сражениях и тому подобное, в то время как при внимательном чтении Библии — Костя задумался над этим совсем недавно — от ее героев, как правило, ничего подобного не требовалось, это могли быть совсем обычные люди или даже цари, но ничего особенного не совершающие, никаких особых побед и деяний. Просто им на голову то сыплется манна небесная, то им является огненный куст, то ангелы, то лестница в небо, а без этих сверхъестественных и ирреальных событий все герои Библии, в общем-то, самые обычные люди.
То же самое можно было сказать и про Евангелие: эта книга тоже целиком состояла из каких-то фокусов, хождений по воде, воскрешений из мертвых, превращения воды в вино и тому подобного, а без этих сверхъестественных событий она тоже превращалась в собрание банальных людей, поступков и слов. Если, к примеру, как писал Флоренский, во время церковной службы душа его умершего друга действительно летала вокруг него, превратившись в пчелу, то тогда, вероятно, это факт, достойный описания. Но Костя в последнее время как-то утратил интерес к подобного рода фактам, все это больше не казалось ему даже остроумным. А ведь та же самая пчела вполне могла бы стать героиней дзенского стихотворения, повествующего о быстротечности человеческого существования, например. Но тогда ее полет перестал бы быть карточным фокусом, а стал бы образом, символом, но это требует уже совсем иного отношения к жизни, иного духовного опыта…
Да и в детективах, пожалуй, тоже это, скорее, шулерский, запрещенный прием, потому что, если вы играете в карты и видите, что эта карта уже ушла, а потом вдруг она снова появляется в колоде, то это ведь не совсем честно, зато этот прием действует безотказно, но только до поры, так как не стоит забывать, что любители детективов читают их в огромном количестве, и это сильно действующее средство может им очень быстро приесться, и наверняка уже приелось…
В общем, хотя Костя и не собирался забивать себе особо голову всей этой чепухой, но лично он не сомневался, что его познаний в этой сфере хватит на десять блумбергов… Что касается конкретного плана, то можно было бы состряпать какой-нибудь триллер, вроде «Психо по-русски», главный герой которого был бы уже вовсе не молодой человек, которого била в детстве мама, как в американском варианте, так как это в Америке все помешаны на психоанализе, что Хичкок, вообще-то, верно подметил… Нет, в нашей отечественной вариации на эту тему, по мнению Кости, на роль маньяка больше всего подошел бы пенсионер-ветеран, который бы на досуге тайком мочил «новых русских», а затем бы обливал бензином их новенькие иномарки, сажал туда труп и поджигал. В общем, такой триллер был бы чем-то вроде «Ворошиловского стрелка», только с несколько иначе расставленными акцентами. В конце же, после разоблачения, этот герой, соответственно, должен был бы не вспоминать свои детские обиды, а выводить на доске мелом формулу прибавочной стоимости, наглядно показывающую, куда, в чьи руки утекает заработанный честным трудом пролетариата капитал, желательно еще, чтобы при этом он разражался мефистофельским смехом. Конечно, может быть — Костя этого не исключал — этого ветерана тоже в детстве била мама, но, скорей всего, его била бабушка, так, по мнению Кости, было лучше, симметричней. И именно такой герой, по его словам, был для современной России наиболее актуален и архетипичен…
В этом Маруся была, пожалуй, полностью согласна с Костей. Она помнила, с каким нетерпением ее мама ждала просмотра фильма «Ворошиловский стрелок» по телевизору, и как она настоятельно советовала Марусе обязательно его посмотреть. Сюжет мама в общих чертах уже знала: разгневанный ветеран мстит «новым русским» за изнасилованную внучку. В конце концов, мама даже специально пригласила Марусю в день премьеры фильма по телевизору к себе, что с ней редко бывало, и накрыла праздничный стол. Может быть, конечно, это было случайное совпадение, но все-таки, других поводов для этого, вроде, в тот день не было. Правда, сам фильм маму немного не удовлетворил, ей там чего-то явно не хватало, она не могла скрыть своего разочарования, она даже так тогда и сказала Марусе: «Ну, могли бы и еще получше все показать».
Вот это «еще получше», видимо, Костя и намеревался воплотить в своем триллере, правда, он еще окончательно не решил, на какой теме ему остановиться. Возможно, это будет эротический триллер о секс-террористке, заражающей СПИДом своих сексуальных партнеров, причем не по заданию, а просто так, из любви к искусству. «Все остается людям» — такое название для этого триллера казалось Косте наиболее подходящим… А может быть, и что-нибудь еще… Косте нужно было еще немного подумать, но пусть Маруся не волнуется, он предоставит ей синопсис точно к намеченному сроку, Блумберг будет доволен…
Были и еще кое-какие мелочи: например, если главную героиню преследует маньяк, то ее подруга или же сестра обязательно тоже должны были погибнуть. Этот прием, по словам Кости, заставляет читателя сильнее почувствовать приближение опасности, а всех этих героев, наряду с теми, о ком он уже говорил, Костя относил к числу так называемых «обреченных». Вообще, на этих «обреченных» персонажей у Кости, судя по всему, был особый нюх. Стоило ему минут десять-пятнадцать посмотреть фильм, как он сразу же чувствовал, кто из героев будет убит, у него на них выработалось безошибочное чутье. А ведь иногда это бывает не так просто определить. Например, Костя далеко не сразу заметил, что, если какой-нибудь из героев фильма как-то уж очень симпатичен, жизнерадостен, неестественно много шутит и смееется, то он тоже обязательно должен погибнуть, но это делалось уже, видимо, для того, чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений в справедливости неотвратимого наказания преступника или маньяка, посягнувшего на их любимца…
Они договорились встретиться через несколько дней, и Маруся радостно побежала домой звонить Блумбергу.
***
Через два месяца после Полнолуния и премьеры «Лунной сонаты» Маруся снова натолкнулась на «новых диких», но уже в музее Неофициального искусства, который находился в том же доме, что и Большой концертный зал Академии Мировой музыки, на той же лестнице, только этажом ниже: музей занимал самую большую сорокаметровую комнату огромной коммунальной квартиры, которая, как и все квартиры этого дома, давно была расселена.
На сей раз «новые дикие» презентовали там свой поэтический сборник, на эту презентацию Марусю затащил опять-таки Алексей. Параллельно с презентацией, тут же, в Большом выставочном зале Музея неофициального искусства, проходила выставка «Фото на память», в связи с чем на всех стенах комнаты в большом количестве были развешаны белые листы бумаги разных форматов и размеров с многочисленными разнообразными надписями, сделанными карандашом и чернилами, вроде: «Дорогому дедушке от внучка Славочки. Сочи, 1972 г.» или «Любимому Пусику от его Мурки. Ленинград, июнь ,1987.», а так как выставка была организована при поддержке Института Гете, то часть подписей была на немецком языке: «Дорогой Герде от Клауса, январь 1943 года, Восточный фронт» и т.п.,- все листы были просто прикреплены к стене кнопками.
В комнате на расставленных стульях сидело не более десяти человек. Маруся опять увидела знакомый таз в руках Отрубева, только ноты перед ним на сей раз были разложены на настоящем пюпитре, Скворцов сидел за столом с маленькой книжечкой в руках лицом к зрителям, а Степанов, очевидно, тем временем лежал, накрытый с головой одеялом, на поставленных у стены стульях у Скворцова за спиной: точно это Маруся определить не могла, потому что лицо лежащего было закрыто. На всякий случай Маруся села в самый задний ряд, подальше от выступающих, предварительно тщательно осмотревшись по сторонам: сзади у нее была только стена, а дверь в комнату находилась с противоположной стороны, за импровизированной сценой.
Внезапно возникший из этой двери философ Нежинский- тот самый, которого Торопыгин называл «русским Кастанедой» и сравнивал с Вергилием в царстве мертвых — сразу же поздравил собравшихся с тем, что наконец-то в нашем городе возрождается утраченная было традиция литературно-музыкальных вечеров русских салонов девятнадцатого века, это явление, значение которого, по его мнению, сегодня, в постмодерную эпоху, можно сопоставить разве что с открытием Ньютоном закона тяготения в эпоху Просвещения… В это самое мгновение на головы присутствующих совершенно непонятно откуда вдруг посыпалось огромное количество яблок, в комнате началась какая-то беспорядочная возня, отовсюду раздавались визг и хихиканье… Маруся, со своей стороны, все-таки пожалела, что, тщательно оглядевшись по сторонам, она почему-то позабыла посмотреть наверх, и только теперь, подняв глаза к потолку, она заметила, что сверху, у основания люстры, каким-то образом был закреплен деревянный ящик, в котором и хранились заранее заготовленные яблоки, а тоненькая едва заметная бечевка тянулась от него к ноге вроде бы безмятежно сидящего за столом Скворцова. Тем временем, сидевший с тазом Отрубев опять торжественно вскинул руку вверх и с грохотом ударил по тазу, а мужик, лежавший на стульях под одеялом, резким движением сорвал его с себя и предстал перед зрителями совершенно голым; более того, он тут же скатился со стульев на пол, потом поднялся и опять гордо лег на стулья, сложив руки на волосатом животе, как обычно складывают руки покойникам — это действительно был Степанов. При следующем ударе в таз он проделал то же самое; примерно после пятого падения, когда он снова улегся на стулья, его огромный красный член вдруг неожиданно встал, и его пришлось срочно снова на время прикрыть валявшимся на полу одеялом. Нежинский и Скворцов стали настоятельно советовать ему взять себя в руки и успокоиться, из обрывков фраз, доносившихся во время возникшей между ними бурной перепалки, когда они сгрудились вокруг Степанова, а также из отдельных реплик и шушуканий сидящих в зале, Марусе стало ясно, что все участники презентации были чрезвычайно встревожены поведением Степанова, главным образом, из-за денег Сороса, который выделил им на эту акцию что-то около двух тысяч баксов. Через некоторое время Степанов наконец успокоился, и все началось сначала: Отрубев бил в таз, а Степанов опять падал…
Маруся поняла, что ей пора уходить, так как литературно-музыкальные чтения могли затянуться допоздна; она поднялась со своего стула и тихонько, еще раз тщательно оглядевшись по сторонам, пробралась к выходу. А если бы она заранее знала, что все это проводится на деньги Сороса, то, возможно, вообще поостереглась бы сюда приходить, так как на такие бабки, помимо яблок, которые стоили в это время года примерно рублей пятьдесят за килограмм, можно было накупить еще и такого, о чем ей было даже страшно подумать.
Уже в прихожей ее догнал Алексей, он вцепился ей в локоть и забормотал: «Ах Маруся, коварная, куда же вы, как вы непостоянны и переменчивы, вы же пропустите самое интересное, ну возьмите же хоть это!» — Маруся даже не пыталась от него вырываться, так как знала, что это бесполезно, и покорно взяла тоненькую книжечку, которую он ей протягивал и на обложке которой значилось: «Отрубь Скворцени-Степанов. И ныне дикий. Стихи и переложения для таза и голоса». Она наугад открыла книжечку, где слева на странице обнаружила стихотворение Кузмина:
На берегу сидел слепой ребенок,
И моряки вокруг него толпились…—
а справа — его «переложение для таза и голоса»:
На берегу сидел слепой ублюдок,
Бойцы вокруг него, сопя, толпились,
Оскалившись, ублюдок громко кыркнул: «Баста,
Кончай базар, куда канаю, кто я,
Никто из чуваков не прошпандорит мимо.
И бабками меня никто не купит,
Мне все до фени: бивень, лабух, фраер,
Я сам балдею от своих прихватов,
Одним я лажа, а другим по кайфу,
Бакланы тащатся, зовут меня улетным.
Олдам — кранты, мажорам — выше крыши. Кто я?»
Каждое из таких «переложений» в книжечке сопровождалось еще и нарисованными снизу «нотами» в виде всевозможных палочек, кружочков и человечков, наподобие тех, какие обычно находят археологи на стенах пещер.
В сопроводительной статье к сборнику Нежинский развивал и доводил до логического конца мысль, которую он уже начал излагать в начале презентации, но не успел завершить из-за обрушившихся на головы присутствующих яблок; точнее говоря, он писал, что некий петербургский поэт-самородок Отрубь Скворцени-Степанов, на его взгляд, очень смелым и оригинальным образом сумел возродить в Петербурге уже угасшую было совсем традицию русских дворянских литературно-музыкальных салонов, давших русской культуре множество гениальных поэтов, певцов и композиторов: Чайковского, Апухтина, Алябьева, Шаляпина, Варю Панину, Фета и, наконец, Михаила Кузмина, умело сочетавшего в своем творчестве таланты музыканта, поэта и композитора,- появление же в нашу постмодерную эпоху такого самородка, как Отрубь Скворцени-Степанов, является столь же органичным и одновременно неожиданным, сколь естественным и неожиданным было открытие Ньютоном в эпоху Просвещения закона всемирного тяготения.
Маруся вышла на улицу, Алексей бежал следом, он говорил, что его всю жизнь раздирало противоречие между тягой к утонченности и естественностью. Загорулько и Кондратюк были очень утонченными, но им не хватало естественности и природной силы, которую он находил в Скворцове и Степанове, это были его Сцилла и Харибда, Гретхен и Маргарита, поэтому он был вынужден метаться между ними, попеременно склоняясь то в одну, то в другую сторону, но никто из них в полной мере, конечно, не сумел воплотить в себе того, что мог бы воплотить настоящий поэт, им всем не хватало универсальности, и только Маруся была его слабым утешением в этом мире, потому что она явилась к нему как богиня, как вечная женственность — его бренной и хрупкой мужественности…
В то же время, Загорулько, несмотря на свою утонченность, однажды послал его за пивом, он сначала не хотел идти, а потом решил: раз Загорулько посылает его за пивом, значит он — женщина, за пивом он пойдет, но Загорульку так и будет для себя считать женщиной, Загорулько -— женщина, ведь такой жест могла позволить себе только женщина, а ведь он же был офицер и его прадед был подданым его Величества Короля Швеции Густава Пятого. С другой стороны, и «новые дикие», когда они собирались на фестиваль Современного Искусства в Хельсинки, они тоже, тоже стали спорить между собой, кто из них более дикий, потому что на Фестиваль могли поехать только два человека, а их было трое, а об Алексее они совсем забыли, и его учитель, поэт Ельник, тоже не обошел вниманием своего ученика, назвал его в своей книге девочкой, «эта девочка», а Екатерина Семеновна, которая посещала с ним литобъединение Ельника и жила в Гатчине, посвятила ему замечательные стихи:
Твоя душа — цветок прекрасный —
Дышала ночью и весной,
А наша жизнь, как дар напрасный,
Прошла… Не мы ль тому виной?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Возьмемся за руки друзья,
Пусть друг сжимает руку друга,
И лед твоей руки, скользя,
Сжигает мне ладонь упруго!
Но Загорулько, когда он принес ему это стихотворение, отказался печатать его в газете «На обочине», где он тогда работал, а ведь это замечательные стихи, в них так много чувства, Маруся и Екатерина Семеновна — вот два автора, которых он больше всего любит сейчас и все время перечитывает; критик же Торопыгин, когда его belle amie Светлана пришла к нему брать у него интервью, отозвался ей о нем в том смысле, что он педераст, а Даня, молодой человек с косичкой, тот самый, который захлопнул перед носом у Кости после выступления Волковой дверцу такси, многократно захлопывал такие дверцы перед самым носом Алексея, и не только такси, но и жилых помещений, и вообще, всякий раз, когда он его видел, он почему-то старался повернуться к нему спиной и делал вид, что Алексея совсем не замечает, когда же Алексей приближался к нему, то Даня как-то боком, незаметно для других, начинал его оттеснять в сторону и таким образом старался вытолкать за дверь, правда, однажды, после фильма Киры Муратовой «Увлечение», Алексей, проходя мимо него в фойе кинотеатра, краем уха слышал, что Дане, который в это время делился впечатлениями от фильма со своей знакомой, этот фильм, как и Алексею, тоже понравился, поэтому он сделал для себя вывод, что Даня все-таки не совсем мертвый человек, и наконец, когда Алексей пришел в гости к Николаю в его коммунальную квартиру на Загородном, к нему на день рождения, куда его, правда, никто не приглашал, и, сидя за столом, долго-долго говорил по-французски, то сидевший напротив Леша Сокольский, и вовсе вдруг, глядя на него, громко сказал: «Боже, какой дурак!»…
***
Маруся шла по залитой солнечным светом улице, была суббота и вокруг полно людей, у нее слегка кружилась голова, вот уже два дня, как она ничего не ела, у нее дома не было даже хлеба. Несмотря на слабость, она чувствовала какой-то подъем, похожий на опьянение, а мысли в ее голове, наоборот, даже обрели какую-то неожиданную ясность и стройность, которых ей редко удавалось достичь в нормальном состоянии. И все-таки она не понимала, почему в конце двадцатого века, в мирное время у себя дома она не могла купить себе не только мороженое, но даже хлеба, и должна была голодать, почти как в блокаду. От осознания собственного бессилия она вдруг почувствовала жуткое озлобление на весь мир, но этого никто не должен был заметить, никто не должен был знать, как ей тяжело. Костя говорил, что, чем тебе хуже, тем веселее и беззаботнее нужно выглядеть, так как это твой единственный шанс выжить. Если же окружающие заметят твою слабость, они обязательно набросятся на тебя и окончательно растопчут. Ошибается тот, кто надеется кого-то разжалобить, все эти бабьи причитания абсолютно ни к чему, ибо такова человеческая природа, и с этим ничего не поделаешь.
Жизнь похожа на карточную игру, и если у тебя сейчас на руках нет козырей, то нужно блефовать, если ты, конечно, собираешься продолжать игру, и главное, не надо отчаиваться, так как в колоде еще много карт, и в следующее мгновение у тебя могут оказаться совсем другие карты. И потом, все люди разобщены, они не думают только о том, как бы тебя уничтожить, каждый играет сам за себя, поэтому между людьми всегда можно проскочить, как корабль между рифами, важно только не подавать виду и быть сосредоточенным.
Именно поэтому самый крупный куш чаще всего срывает тот, кому не на что рассчитывать, так бывает, потому что по законам блефа самую крупную ставку нужно делать тогда, когда у тебя совсем нет козырей, а жизнь — это и есть блеф. История Золушки — это сказка, а жизнь — это блеф. Но не каждый на это способен — сделать такую ставку, для этого нужно быть по-настоящему сумасшедшим. Во времена социальных катаклизмов и потрясений стройные человеческие ряды на мгновение размыкаются, в тесных стенах социальных ограничений возникают бреши, через которые и проходит тот, у кого в другое время нет никаких шансов, какой-нибудь сумасшедший, вроде Наполеона или Гитлера. В искусстве то же самое, ведь гений — это сумасшедший, у которого в благополучные времена очень мало шансов, и которого никто не ждет, так как истина, которую он несет людям, на самом деле, никому не нужна, она не так сложна, как это часто стараются представить, она просто никому не нужна… В последнее время это была любимая костина мысль, и он часто повторял ее Марусе.
И все-таки, у Маруси было очень хорошее настроение, потому что у нее в руках наконец-то была папка с проектом будущего романа, который она только что, полчаса назад, взяла у Кости и еще не успела прочитать, так как очень спешила в издательство, но сейчас она находилась уже в двух минутах ходьбы от «Блум-пресс», а у нее в запасе было еще минут пятнадцать, поэтому она решила зайти в Екатерининский садик, присесть на скамейку и хотя бы мельком ознакомиться с содержимым папки.
Весь синопсис размещался на полутора страницах, правда, написан он был мелким убористым почерком. У Кости не было ни компьютера, ни машинки, поэтому все свои тексты он всегда писал от руки, что, правда, бывало крайне редко, потому что Костя постоянно говорил и почти никогда не записывал своих мыслей, во всяком случае, Маруся никогда не видела его за этим занятием.
Вверху страницы крупными печатными буквами было выведено «Гений сыска». Далее следовало краткое изложение сюжета будущего романа, который начинался вполне традиционно. Молодая выпускница юрфака Марфа Гройс получила распределение в управление по борьбе с организованной преступностью, где ей сразу же поручили расследование громкого убийства видного политика, кандидата в депутаты городского законодательного собрания, который был застрелен в упор в небольшой комнате в присутствии почти двадцати человек. При этом стрелявшего видели чуть ли не пятнадцать из них, однако убийцу почему-то не только никто не задержал сразу, но и потом, на протяжении долгого времени, его никто не арестовывал, хотя он, вроде бы, даже не собирался никуда скрываться и спокойно продолжал жить своей обычной жизнью у всех на виду.
Марфа тщательно опрашивает всех свидетелей, собирает увесистое дело в трех объемистых папках, и с этими папками начинает ходить по инстанции от начальника к начальнику, но никто из них никак не реагирует на то, что дело завершено, преступление раскрыто, и не предпринимает по этому делу никаких следующих действий. Вместо этого один добродушно предлагает ей попить чайку, другой осведомляется о ее здоровье, третий предлагает ее трахнуть, четвертый просто зевает и отворачивается…
Вконец измотанная от бесконечных хождений по коридорам и этажам с тремя тяжелыми папками дела в руках, она все-таки отправляется в Москву. И там снова ходит из кабинета в кабинет. Наконец она попадает к самому главному начальнику: им оказывается обрюзгший жирный полковник ФСБ, который явно пьян и сидит, развалившись в кресле, неподвижно уставившись на нее своим бессмысленным мутным взором на протяжении всего времени, пока она излагает ему суть дела. В заключение полковник бормочет заплетающимся языком:
— А не пошла бы ты на хуй, дорогая! Неужели ты не понимаешь, что истина совсем не так сложна, чтобы расписывать ее в трех томах, просто она никому не нужна. Тоже мне, гений сыска!
На этой фразе, несколько раз подчеркнутой красной ручкой, повествование обрывалось.
Дойдя до этого места, Маруся вдруг почувствовала, что все ее надежды рушатся, и она уже не просто находится на краю пропасти, а проваливается в нее, больше ей было некуда и незачем спешить. Ясно, что показывать Блумбергу этот текст не было никакого смысла, а шутить с ним у нее не было никакого желания. Она поняла, что у Кости, наверное, стоило ей уйти, опять резко изменилось настроение, и он просто записал то, что не успел ей высказать вслух. Наверное, Костя специально так все подстроил, тянул до последнего, чтобы она в спешке не успела прочитать то, что он написал, и, не глядя, передала текст в издательство… Маруся медленно закрыла лицо руками и разрыдалась.
***
Литературному приложению к московской газете «Универсум», с которой тоже сотрудничала Маруся, срочно понадобилась статья про Роальда Штама, андеграундного поэта, который в пятидесятые годы жил в Петербурге и покончил с собой, не дожив до тридцати. В «Универсуме», помимо литературного приложения «Букинистический Универсум», «БУ», существовало еще множество всевозможных приложений: «Региональный Универсум», «Военный Универсум», «Культурный Универсум», «Религиозный Универсум» и т.п. И вот теперь в «БУ» вдруг кто-то вспомнил, что Роальду Штаму скоро исполнилось бы семьдесят, а так как Маруся жила в Петербурге, то есть в городе, в котором в свое время жил Штам, то статью о нем поручили написать именно ей. Она должна была побеседовать как можно с большим количеством людей, знавших Штама, и вообще собрать максимум фактического материала, так как в его биографии до сих пор было очень много «белых пятен», не до конца ясны были даже обстоятельства его смерти.
Главный редактор «БУ» Сеня Загоскин сразу же посоветовал Марусе обратиться к его дяде, Самуилу Гердту, который был театральным художником, в свое время работал с Михоэлсом, а в пятидесятые годы, наверняка, знал Штама, так как некоторое время был близок с группой ленинградских художников, возглавляемой неким Маресьевым, к которой также примыкал и Штам. По словам Сени, у его дяди, Самуила Иосифовича, в свое время был по-настоящему большой талант, но он его постепенно разменял по мелочам, работая сначала в театре, а потом в кино. Сам Сеня сейчас не мог ему даже позвонить, потому что с ним поссорился, причем до такой степени, что и Марусе он не советовал в разговоре с его дядей даже упоминать его имя, она могла обратиться к нему просто как журналист, собирающий материалы для статьи о Штаме.
Самуил Иосифович уже двадцать пять лет безвыездно жил в деревянном маленьком домике в Вырице: переехать сюда в свое время он был вынужден из-за редкой болезни крови, требующей повышенного содержания кислорода в воздухе. Пару лет назад Сеня, еще будучи студентом театроведческого отделения ГИТИСа, проводил у дяди свои летние каникулы, он жил у него в Вырице в течение двух месяцев, дядя же, по словам Сени, все это время кормил его исключительно холодцом и даже не давал ему звонить матери в Москву по своему домашнему телефону, из-за чего Сеня был вынужден ходить на станцию, которая находилась в нескольких километрах от их дома. Кроме того, к концу второго месяца пребывания Сени у дяди, он почему-то решил, что Сеню заслало к нему ФСБ, чтобы тот за это время собрал о нем всю необходимую информацию: что он там, в своем уединении, думает и замышляет, какие картины рисует — и все потому, что иногда Сеня, как и положено племяннику, действительно справлялся о здоровье Самуила Иосифовича и о его ближайших творческих планах, которые, в сущности, его очень мало интересовали, и делал он это исключительно из вежливости. Самуил Иосифович, конечно, не сказал так прямо об этом Сене, но поделился своими соображениями на этот счет по телефону со своей сестрой, сениной мамой, которая, в свою очередь, все это передала Сене. В конце концов, Сеня не выдержал, послал дядю на хуй, хлопнул дверью и решил больше туда никогда не возвращаться, чему дядя, в свою очередь, видимо, тоже был искренне рад.
Все это Сеня сообщил Марусе просто так, на всякий случай, чтобы она все это учла, ибо одно неосторожное слово с ее стороны, которое каким-то образом вызвало бы у Самуила Иосифовича ассоциации с его племянником, могло серьезно повредить делу, и она рисковала уже никогда не получить ценных сведений о замечательном ленинградском поэте, которые таким образом и вовсе останутся не известными потомкам.
В Вырице Самуил Иосифович Гердт жил в небольшом домике на берегу озера с женой Ксюшей и собакой, Ксюша была лет на тридцать младше Самуила Иосифовича и прекрасно готовила. Маруся приезжала к Самуилу Иосифовичу несколько раз, и ее там всегда очень хорошо кормили, причем не один, а два или три раза, когда она задерживалась допоздна. Поэтому она не совсем понимала и вообще с трудом могла себе представить, как и почему Самуил Иосифович кормил своего племянника исключительно холодцом, да и против марусиных звонков по телефону в Петербург и в Москву он тоже никогда не возражал, и даже пару раз сам предложил ей позвонить в Париж, чего ей и мама никогда не разрешала.
Самуил Иосифович, действительно, какое-то время был знаком и с Маресьевым, и с его окружением, поэтому и Роальда Штама он тоже знал довольно хорошо, хотя сам в эту группу он никогда не входил, потому что все это были, конечно, «очень темпераментные и талантливые люди», но совершенно деклассированные и неуправляемые, он же сам в то время заканчивал Академию Художеств, поэтому с ними иногда общался, но знакомство его было, скорее, шапочным, и поверхностным. Роальд Штам, по его словам, был юноша с очень бледным одухотворенным лицом и чрезвычайно начитанный и эрудированный, до такой степени, что подобного рода эрудитов в дальнейшем в своей жизни ему уже редко когда приходилось встречать. А встречался он со многими: и с Михоэлсом, у которого даже какое-то время успел поработать в театре художником, и с Шостаковичем, и с Прокофьевым, и с Тарковскими, с отцом и с сыном, и с Окуджавой, который даже некоторое время, как и Сеня, жил у него здесь в доме, и с Высоцким, который, по его словам, был человеком очень непростым и скрытным, с Никитой Михалковым, с Кончаловским, с Акимовым, и с Вертинским, когда тот только что вернулся в Союз, и еще много-много с кем…
Соломон Михоэлс, например, был тоже очень и очень непростой человек и с очень развитым чувством юмора. Он рассказывал Самуилу Иосифовичу, как незадолго до него у них в театре работал один народный артист, который к приходу Самуила Иосифовича уже год как умер от бесконечных запоев — он вообще последние годы жизни очень много пил и даже на сцену выходил в нетрезвом виде, текст читал кое-как, да и память у него была плохая, слов не помнил, суфлеры с ним намучились.
А все дело в том, что в тридцатые годы проводилась такая кампания, когда каждому из видных деятелей искусств того времени поручалось пойти на какой-нибудь завод и отобрать там у станка несколько потенциальных гениев, так как предполагалось, что таковые могут существовать только в рабочей среде. Эта обязанность была возложена и на Станиславского, а тот, недолго думая, отправился на какой-то завод, вошел в цех, подошел к первому попавшемуся слесарю, попросил ему почитать что-нибудь на память, ну тот ему и прочитал что-то вроде «Однажды в студеную зимнюю пору», три первые строчки, которые он помнил, а Константин Сергеевич, чтобы долго по цеху не ходить, сразу же и сказал: «Вот, настоящий выдающийся талант, сразу видно, у этого молодого человека недюжинные способности, ему надо обязательно учиться и работать над собой, шлифовать свое дарование!». Этого слесаря и отправили сразу же в Москву учиться, а потом во МХАТ, а потом, так как фамилия его была то Синдлер, то ли Шифман, по разнарядке в театр Михоэлса, он к тому времени был уже народным артистом, тут он и стал всех доставать своим «выдающимся талантом», в результате, после очередной его пьянки и прогула, было решено собрать собрание творческого коллектива, где его попытались слегка привести в чувство и по-товарищески пожурить, а он вышел на сцену и громко, даже вроде неплохо поставленным голосом, что у него во время спектаклей никогда не получалось, сказал:
— Я на всех вас полОжил! — причем с ударением на втором слоге, — Меня сам Константин Сергеевич признал, а ваше мнение мне до лампочки!
Все знакомые Самуила Иосифовича были в основном из музыкально-театральной среды, так как долгое время он работал в театре художником, оформлял спектакли, а потом как-то незаметно перешел в кино, где уже делал костюмы, главным образом, к экранизациям русской классики. Он даже был членом Союза кинематографистов, а в Союз художников его так и не приняли.
Самуил Иосифович сразу же пообещал рассказать Марусе кое-что интересное про Роальда Штама, но всякий раз свой рассказ он начинал как-то очень издалека, забираясь в самую глубину своего детства. Он рассказывал Марусе о том, как он впервые решил стать художником, потому что, когда он еще был совсем маленьким, он шел по Невскому и увидел в витрине магазина огромную старинную картину, на которой были нарисованы какие-то сказочные львы и птицы, вот тогда он почему-то и сказал себе: «Когда я вырасту, я стану художником». В детстве он вообще очень любил рисовать, правда, от запаха краски ему часто становилось плохо, и он начинал задыхаться, также он боялся темноты, поэтому у него над кроваткой всегда висела маленькая светелочка. Его дед был главным раввином Петербурга, а отец — часовым мастером, мать вообще нигде не работала, а сидела с детьми, с его старшей сестрой и с ним. Сестра у него была очень красивая, у нее было много поклонников, и она часто брала его с собой в Эрмитаж и в Русский музей на художественные выставки, там он и увидел впервые полотна Рембрандта, Тициана, Рубенса, Нестерова, Перова и Левитана… У Самуила Иосифовича в доме тоже висело несколько его небольших работ, в основном, пейзажи, чем-то отдаленно напоминавшие пейзажи Левитана.
А потом, в тридцать пятом году, отца арестовали, а их с матерью и сестрой сослали во Фрунзе, где тогда находился очень странный состав ссыльных, и можно было встретить самых невероятных людей, от рядовых инженеров, врачей и учителей до внуков Льва Толстого и Мережковского, учеников Блаватской, бывших офицеров белой армии, монархистов, буденновцев, последователей Кропоткина, махновцев, антропософов, православных, оккультистов, меньшевиков, в общем, кого там только не было. Эта разношерстная среда самым неожиданным образом подействовала на Самуила Иосифовича, и именно там он впервые стал приобщаться к искусству, впервые услышал многие имена, Мережковского, например, или же Соловьева, о существовании которых в иных условиях он, наверняка, узнал бы на тридцать-сорок лет позже. Там же он впервые начал заниматься живописью под руководством внучатой племянницы Нестерова, которая потом и дала ему рекомендательное письмо в театр Соломона Михоэлса, который, в свою очередь, поспособствовал его поступлению в Академию Художеств, что по тем временам для сына репрессированного из числа ссыльных казалось почти невероятным.
Примерно же через год после поступления в Академию его как-то вызвали к декану их факультета и предложили выступить на собрании с обличительной речью в русле пропагандистской кампании, связанной с известным «делом врачей», его кандидатура для такой речи, по мнению декана, была наиболее подходящей из-за его имени и фамилии. Но Самуил Иосифович отказался и до сих пор очень гордился этим, потому что тогда он стоял перед очень серьезным и рискованным выбором, так как последствия его отказа могли быть самые непредсказуемые. Но он все равно сказал декану, что пусть лучше они доложат вышестоящему начальству, что у него не все в порядке с головой, и на него положиться нельзя, а он пока, для отвода глаз, возьмет академотпуск, как бы по состоянию здоровья. В результате декан почему-то неожиданно пошел ему навстречу, и Самуил Иосифович тогда целый год не учился в Академии, а работал в детском саду художником и вел там кружок рисования, в том числе и здесь, неподалеку, в Вырице, куда детские сады тогда выезжали на лето.
В дальнейшем он все-таки сумел вернуться в Академию и даже ее закончить. Само обучение в Академии оставило у Самуила Иосифовича противоречивые чувства. С одной стороны, там были неплохие художники, профессионалы, которые сумели ему поставить руку, и эти навыки очень пригодились ему в дальнейшем, с другой стороны, ему явно тогда не хватало общеобразовательных дисциплин, знакомства с новейшими течениями искусства, с многими из которых он познакомился впервые чуть ли не тогда, когда ушел на пенсию, то есть буквально лет пятнадцать назад, а с некоторыми — и еще позже, только после начала перестройки и наступления гласности, поэтому, долгое время занимаясь живописью, он почти ничего не слышал ни о кубистах, ни о постимпрессионистах, ни об экспрессионистах, не говоря уже о каких-нибудь там дадаистах и сюрреалистах — с их работами, хотя бы в виде репродукций, он сумел познакомиться гораздо позднее и очень об этом жалел. В Академии их учили в основном на образцах либо глубокой древности и Возрождения, либо Брюллова и передвижников, даже Мир Искусства там никогда никто не упоминал. Самуил Иосифович очень завидовал Марусе, что она была в Париже и видела Лувр, где ему так и не удалось побывать.
После окончания Академии он некоторое время работал у Акимова, потом перебрался к Товстоногову, а потом долго работал на Ленфильме, делал эскизы костюмов. Когда Высоцкий снимался у Швейцера, он встретился с ним в баре на Кировском, а узнав, что Самуил Иосифович является членом Союза Кинематографистов, вообще не захотел с ним разговаривать и повернулся к нему спиной, тогда Булат, которого Самуил Иосифович знал уже тогда несколько лет, сказал потом Высоцкому: «Володя, ты напрасно с ним так, Самуил не такой!», — и после этого Высоцкий изменил к нему свое отношение. А вообще, это был очень сложный человек, совсем не такой, как его теперь представляют, в нем было все, буквально все, он вбирал в себя всю гамму человеческих чувств, это был настоящий артист, таких, как Высоцкий, Самуил Иосифович тоже очень мало встречал в своей жизни… Ну разве что Тарковского-младшего, который был очень замкнутым и неразговорчивым и с которым тоже было очень тяжело вступить в контакт, в отличие от его отца, которого Самуил Иосифович знал гораздо лучше и общаться с которым было куда проще…
Тут Маруся заметила, что Самуил Иосифович как-то незаметно для нее перескочил через время своего окончания Академии, а ведь именно тогда, по его словам, он встречался с Роальдом Штамом и другими «маресьевцами», и он ведь обещал Марусе рассказать про Штама еще кое-что очень интересное, зачем, собственно, она к нему и приехала. А Самуил Иосифович заскочил далеко вперед, уже в семидесятые, все это тоже, конечно, было очень интересно, но на улице было уже темно, а статью ей нужно было сдавать уже через две недели, пока же она знала про Штама только то, что это был «очень бледный, замкнутый, и очень эрудированный юноша».
Между тем, она совершенно не могла ни прервать, ни направить в нужное русло речь Самуила Иосифовича, потому что, стоило ей открыть рот, как он начинал махать руками и говорить: «Подождите, подождите, сейчас, сейчас, вы еще не слышали самого интересного!«,- к тому же, после такой паузы у него сразу же обрывалась нить предыдущего повествования, и он мог либо снова начать со своего детства и пересказывать его со всеми подробностями, но в другой последовательности: как он ходил в Эрмитаж со своей сестрой, как он решил стать художником, как он жил во Фрунзе… А по второму, а потом по третьему и по четвертому разу слушать то же самое, но в других вариациях, Марусе было совсем не интересно, поэтому вскоре она решила вообще не прерывать Самуила Иосифовича, чтобы он хотя бы не возвращался к тому, что он уже говорил, и если уж она его слушает, то пусть лучше он говорит что-нибудь новое, хотя бы будет какая-нибудь свежая информация, так как повторение одного и того же плохо действовало ей на психику, она с трудом могла усидеть на месте, ей хотелось вскочить и выбежать на воздух. Вероятность же того, что после ее вопроса и возникшей в связи с этим заминки Самуил Иосифович вдруг начнет именно с того места, которое нужно, то есть, хотя бы со времени обучения в Академии и на сей раз уже не проскочит мимо интересующей ее темы о Роальде Штаме, а как-то незаметно для себя все ей о нем расскажет, так вот, вероятность этого, как она скоро сумела в этом убедиться на собственном опыте, судя по всему, была равна практически нулю. Потому что всякий раз, после того, как она его прерывала, он сразу же погружался в воспоминания еще более раннего детства, чем до того, начинал рассказывать ей о том, как он ловил бабочек, рассматривал рыбок в аквариуме, и переливы воды вызывали у него первые живописные ощущения, уже тогда он самостоятельно открыл некоторые особенности цветовой гаммы, которые были свойственны первым работам импрессионистов, и о которых, само собой разумеется, в четыре годика он еще ничего не знал…
Как только он оказывался в этой точке своей жизни, Маруся мысленно измеряла, сколько лет ему надо будет пройти, чтобы добраться до середины пятидесятых, и ей едва не становилось дурно. В результате, она решила для себя ни в коем случае не открывать рот и ничего не говорить, иначе будет только хуже. Если уж ей не повезло на сей раз, и Самуил Иосифович перескочил через нужный ей период времени, то надо подождать, набраться терпения, и может быть, в следующий раз, с нового захода, в ее сетях все-таки окажутся нужные ей факты. Во всяком случае, уезжая от Самуила Иосифовича, она твердо решила для себя, что постарается дома составить несколько наводящих вопросов, чтобы сразу, со всех сторон окружить его, отрезать ему пути к отступлению, подвести его году примерно так к пятьдесят третьему, чтобы он поглубже вошел в эту тему, тогда, возможно, в его памяти и всплывут столь необходимые ей факты жизни загадочного поэта.
***
В последний раз более или менее отчетливо Маруся видела Алексея Б. около Дома кино, перед очередной премьерой, где он стоял, поеживаясь от холода и нервно озираясь по сторонам. Сначала она, было, даже подумала, что это он ждет ее, потому что обычно он всегда приходил на место их предполагаемой встречи заранее, и, стоило ему ее заметить, как он сразу же кидался к ней навстречу, жестами выражая бурный восторг, но на сей раз они, вроде бы, ни о чем не договаривались, более того, он не звонил ей уже целых три дня, что само по себе было странно, так как до сих пор он звонил ей практически каждый день, а иногда по два раза. Теперь же он вообще будто не замечал Марусю, даже, когда она уже приблизилась к нему на расстояние десяти-восьми метров, он только скользнул по ней равнодушным взглядом, напряженно вглядываясь куда-то вдаль, ей за спину… Вдруг он весь вздрогнул, радостно вскинул руки вверх и кинулся навстречу Марусе, она даже с некоторым раздражением подумала, ну вот, наконец-то он ее узнал и сейчас опять в нее вцепится своими железными ручками, которые у него, действительно, были какими-то неестественно сильными и цепкими для его, скорее, хрупкого сложения, однако Алексей промчался мимо нее и даже, как ей показалось, слегка задел ее локтем. Она невольно оглянулась назад, там она заметила Артема Живкова и рядом с ним какую-то маленькую хрупкую девушку — это, как выяснилось позже, была первая жена Артема, которая на время приехала в Петербург из Израиля; Алексей прыгал и скакал вокруг нее, выражая тем самым ей свой бурный восторг, он уже вцепился ей в обе руки и даже на мгновение припал перед ней на одно колено, чего он даже перед Марусей никогда не делал…
Маруся по-прежнему никак не могла понять причину происшедшей с Алексеем перемены, все это — особенно этот резкий перепад в отношениях — очень сильно ее раздражало, она даже чувствовала, что это плохо действует ей на психику, как будто кто-то взял и высосал у нее всю ее жизненную энергию, и некоторое время она даже вообще почти ничего не могла делать. От раздражения она даже отдала Светику золотое кольцо, которое Алексей в один из своих порывов ей подарил, он тогда ей это кольцо буквально навязал, а взамен взял себе ее серебряное, попроще, это, как он говорил, был обряд их обручения. Светик, правда, сразу же стал всем вокруг трепать, что это кольцо ему подарила Лив Тейлор во время своего приезда в Петербург, на премьеру «Евгения Онегина», и Маруся скоро пожалела, что отдала ему это кольцо, лучше бы она его выбросила на помойку или снесла в ломбард…
Однажды, уже много лет назад, Марусе нужно было срочно ехать в Москву для получения своего первого в жизни гонорара за перевод, ехать обязательно нужно было уже на следующий день, а денег на билет у нее не было и достать их казалось совершенно невозможно, даже мама в тот раз ей категорически отказалась их давать: мама всегда так поступала, когда чувствовала, что Марусе что-то опять очень-очень нужно. Они шли тогда с Костей по Кузнечному переулку и обсуждали эту проблему, Костя же, по своему обыкновению, смотрел не прямо перед собой, а себе под ноги, и вдруг он увидел на тротуаре маленькое золотое колечко с бирюзой, которое сверкало и переливалось в свете вечернего фонаря. Маруся сразу же тогда сдала это кольцо в ломбард и купила себе билет… Сейчас же она совсем не понимала, что случилось с Алексеем.
Правда, примерно через два месяца после всех этих событий ей в руки попалась крошечная брошюрка «Пара Russian Books», которую, оказывается, уже некоторое время назад начал издавать Артем Живков, этот бюллетень выходил еженедельно, и в нем каждый раз публиковалось по две рецензии на новые книги, преимущественно питерских авторов, как правило, одна положительная, одна отрицательная. В брошюрке, которую она держала в руках, Маруся обнаружила рецензию на книгу Алексея Бьорка «у О», рецензия была очень хвалебная, почти восторженная. Бьорк сравнивался с изумрудом, переливающимся всеми гранями своего таланта, однако изысканная и тонкая отделка делала этот талант доступным пониманию только очень редких и самых искушенных ценителей отечественной словесности, что давало повод автору рецензии Артему Живкову посетовать на слепоту современной отечественной критики и публики, причины которой, впрочем, ему, как человеку в высшей степени искушенному, были вполне понятны… Причем, как заметила Маруся, до сих пор в бюллетене Живкова хвалились в основном книги, вышедшие у Блумберга, и, в этом смысле, Бьорк был, скорее, исключением, так как его опубликовал издатель из Перми, с машиной…
А уже буквально через два номера в том же самом книжном бюллетене «Пара Russian Books» Маруся, к своему ужасу, обнаружила разгромную статью на себя под названием «Страшнее атомной войны», подписанную неким Шнеерсоном, о котором она вообще никогда ничего не слышала. Автор рецензии поносил Марусю последними словами, ставя ей в вину многое такое, чего она себе даже никогда не могла бы и вообразить.
Вначале Шнеерсон, как бы вскользь, заметил — правда, не скрывая своего раздражения по этому поводу — что марусина известность к настоящему моменту приобрела такие масштабы, что это уже просто невозможно не замечать, то есть, по его мнению, на это уже нужно было как-то реагировать. Главный пафос статьи заключался в том, что Маруся достигла своей невероятной и сногсшибательной популярности исключительно за счет того, что умудрилась создать еще один жанр массовой литературы, наподобие тех, в которых работают Агата Кристи, Барбара Картленд и Стивен Кинг, только, в отличие, например, от тех же женских романов, где все чувства преподносятся в утрированно возвышенной и неземной форме, у Маруси все это перевернуто с ног на голову, и она описывает исключительно грязь и низменные человеческие инстинкты.
Все герои марусиных романов — а по преимуществу это жизнерадостные гомики — только и думают о том, у кого бы еще на халяву отсосать, кому бы полизать зад или вставить пистон, а также они не прочь облапошить любого зазевавшегося простака, пожрать за его счет и повеселиться, а вместо благодарности, как это обычно бывает у нормальных людей, они способны в любой момент своего благодетеля кинуть, подставить, опустить, а может быть, даже и замочить. Стоит героям Маруси кого-нибудь увидеть, первое, что им приходит в голову — это мысль: «Хоть разок с ним посношаюсь!» И им совершенно не важно, кто перед ними: такой же, как они сами, извращенец-гомосексуалист, или же пожилой уважаемый человек, ветеран войны, пенсионер, заслуженный работник искусств, деятель культуры, ученый, капитан дальнего плавания, учитель, космонавт, милиционер, донской казак, член ЦК КПСС, депутат Государственной Думы, рабочий или колхозник: им на это глубоко плевать, и они любыми средствами стараются добиться своей цели — об этом, собственно, и написаны романы Маруси. Пределом мечтаний подобного рода героев, помимо сношений, отсасывания и подставления собственного зада, естественно, является попадание за бугор, а для этого они готовы еще на большее и худшее, на такое, что даже трудно себе представить человеку в здравом уме, то есть для того, чтобы жить в Париже или в Нью-Йорке, они готовы ехать туда в коробках из-под говна, пустых контейнерах из-под радиоактивных отходов, багажниках машин или даже просто спрятавшись в просторном чемодане какой-нибудь доверчивой старушки. Верхом извращения, совершенно неправдоподобной, но весьма характерной, рецензент считал, например, историю о том, как один из марусиных персонажей решил переправить себя за границу по частям, для чего он последовательно отрубал себе руки, ноги, эта затея, естественно, провалилась, все закончилось на голове, а тем временем его безутешный друг-хирург, который должен был его там собрать и сшить, напрасно ждал его в Тель-Авиве. Ну а о таких само собой разумеющихся вещах, как угон самолета, кража загранпаспорта, фиктивный брак или же незаконный переход границы, тут и говорить нечего. Из всего этого уже и так видно, что они не очень любят свою родину, а поэтому они делают здесь, что хотят. Они могут насрать своему начальнику на стол, потому что их совершенно не интересует собственное будущее, служебное положение, успехи в работе, они вообще не хотят работать, а только отдыхать и веселиться, в любой момент они способны подложить свинью своему ближнему, причем не только в переносном, но и в самом прямом смысле, так как в романах Маруси этим типам не лень ради этого съездить куда-нибудь в отдаленный колхоз и украсть там настоящую живую свинью, потом связать ее, заткнуть ей рот и подложить кому-нибудь в постель, чаще всего, женщинам, которых они тоже совсем не любят, всячески третируют их, унижают и достают. Любимым же их развлечением у себя на родине, помимо траханья, кувыркания и стояния на ушах, является, опять же, публичная демонстрация своих гениталий, во всяком случае, автор рецензии насчитал в ее романах не меньше восьми сцен, когда ее герои умудрялись бить друг друга своими членами по лбу…
И это была только малая толика того, что, по мнению рецензента, можно было обнаружить в романах Маруси, которую он вообще считал большим специалистом по грязи, это был ее конек, в этом ей сегодня не было равных, о грязи она знала абсолютно все, так что если, к примеру, в свое время тульский умелец подковал блоху, то Марусе, по его мнению, не составило бы большого труда со всеми подробностями живописать, как комар эту блоху оттрахал. А вот о природе, погоде, возвышенных чувствах, доброте, отзывчивости, трудолюбии, скромности, бескорыстии и просто нормальных людях она знала очень мало, практически ничего. Так что, если кому-нибудь подобные вещи нравятся, то тот, конечно, будет с упоением читать марусины книги — себя самого, естественно, автор рецензии к таким людям не причислял, ибо, по его мнению, ее творчество представляло собой одно из самых ярких проявлений гипертрофированно развившейся в последние годы пара-культуры, то есть не культуры в самом обычном и традиционном ее понимании, а является.
Гипертрофированно раздутую значимость этой культуры, по мнению рецензента, ярко продемонстрировала презентация в конференц-зале Публичной библиотеки последнего романа Маруси, на которой ее обезумевшие поклонники выломали двери и выдавили несколько стекол, а длинная очередь из тех, кто не сумел попасть в зал, выстроилась чуть ли не до самого Невского. Этот приведенный в рецензии факт особенно поразил Марусю, так как на презентации ее последнего романа, вышедшего тиражом двести экземпляров, которая состоялась в задней комнате Академии мировой музыки, едва ли присутствовало и двенадцать человек, и это с учетом того, что она, опасаясь того, что мероприятие может провалиться, на всякий случай пригласила еще сестру Кости и трех ее подруг — они были люди обязательные и пришли в полном составе. Разгадку же невероятного, по мнению рецензента, по масштабам и массовости успеха книг Маруси и следует искать в том, что она сумела изобрести и создать совершенно уникальный и новый для наших дней жанр массовой литературы, в которой герои и персонажи живут и действуют с точностью «до наоборот» в сравнении с тем, как обычно живут и действуют герои традиционных жанров массовой литературы, то есть детективов, женских романов, фэнтези, и т.п.
Помимо всего этого, в рецензии еще присутствовало рассуждение о том, что Маруся, конечно же, как профессиональная переводчица Селина и Жене, пишет гораздо лучше той же Барбары Картленд, однако, если бы Барбара Картленд — которая, по мнению рецензента, писала плохо, работая в своем жанре — научилась бы писать хорошо и даже блестяще, как Маруся, то она все равно не стала бы писать так, как Вирджиния Вульф. Логика этого длинного рассуждения немного ускользала от Маруси, но с выводом насчет Вирджинии Вульф она, в общем-то, была согласна…
В завершение же статьи, как Маруся и ожидала, автор не упустил случая слегка обыграть ее название, то есть он сначала, как бы обращаясь к читателям, задавал им вопрос: «Что же после всего этого страшнее атомной войны?», — и тут же сам на него отвечал: «Писательница с зубами!».
Еще через пару месяцев в том же «Пара Russian» был объявлен шорт-лист премии имени Ивана Коневского (Ореуса), в котором тоже в числе первых по жанру прозы значился Алексей Бьорк с его романом «у О». Эта премия, насколько знала Маруся, существовала еще в застойные времена, теперь же, судя по всему, с легкой руки Артема Живкова, эта премия снова возрождалась к жизни, правда, с практически полностью обновленным составом жюри, в которое, помимо самого Живкова, вошли еще Загорулько, Кондратюк, некий Отпадов, Нежинский, а также совершенно не известный Марусе профессор славистики мичиганского университета Густав Бренд; из прежних учредителей, старых кадров, остались только Петров и Голимый. Вручение премии должно было состояться уже через месяц, то есть в декабре. Маруся почему-то не сомневалась, что премию на сей раз получит именно Алексей Б., однако, совершенно неожиданно для нее, первым лауреатом возрожденной премии стал писатель Кирилл Пересадов, который в это время как раз находился в Соединенных Штатах Америки, где читал лекции и встречался со своими читателями.
Возможно, Маруся об этом даже никогда бы и не узнала, так как специально не следила за развитием всех этих событий, если бы, спустя почти полгода после того, как премия, вроде бы, должна была быть уже вручена, ей не позвонила жена Кирилла Пересадова Любаша, с которой она была уже несколько лет знакома. Любаша обращалась к ней в данном случае как к «представительнице богемы». Оказывается, она и ее муж, который сейчас уже вернулся из Америки и жил в своей квартире в Москве, только сейчас услышали, что несколько месяцев назад он был награжден какой-то полуофициальной литературной премией. Любаша теперь очень интересовалась, что это за премия, как она называется и, самое главное, каков ее размер, так как они только что завершили евроремонт в своей московской квартире и начинали такой же ремонт в своей квартире в Петербурге на Невском, и деньги им сейчас очень бы не помешали. Квартира на Невском была, действительно, огромных размеров, и поэтому Маруся вполне понимала Любашу, однако после того, как Маруся подробно и со всеми деталями объяснила Любаше название, смысл и назначение награды, которой удостоился ее муж, Любаша вдруг громко и истерично заверещала и бросила трубку.
Эта премия существовала в Ленинграде еще с застойных времен, и Ореус, поэт начала двадцатого века, который утонул в возрасте двадцати четырех лет, казался тогда фигурой очень символичной для деятелей ленинградского андергаунда, так как его ранняя смерть и вообще малая известность при жизни на фоне звезд того времени: Блока, Белого, Соллогуба и других, — как нельзя лучше соответствовали их собственному положению в тогдашней культуре. По традиции, существовавшей с давних времен, лауреат получал ласты, плавки и полотенце, а также три копейки, так как именно столько в те времена стоил билет на трамвай до Стрельны, где, вроде бы, по преданию, во время купания и утонул Коневской и куда, видимо, по замыслу учредителей премии, и в наши дни мог отправиться лауреат, чтобы там утопиться. На самом деле, Ореус утонул совсем не там, а где-то в Прибалтике, но во время первого вручения этот факт как-то забыли уточнить, а потом решили оставить все, как есть, чтобы не менять традицию. Во всяком случае, именно так смысл этой премии трактовался в те далекие годы во время вручений, в том числе и самими учредителями в их поздравительных выступлениях и напутствиях лауреатам, на одном из таких вручений Марусе даже как-то довелось присутствовать. Все это, и ничего более, Маруся подробно и изложила Любаше, после чего та истерично бросила трубку, чем несколько озадачила Марусю.
Любаша была филологом, изучала сказки, и вот уже несколько лет писала диссертацию про Кощея Бессмертного. Своего мужа она тоже считала чем-то вроде Иванушки-Дурачка, а все его жизненные и творческие успехи, продвижение по служебной лестнице, высокие должности в ПЕН-клубе и прочую «шелуху» она считала чистой случайностью, просто необыкновенно благоприятным для ее Кирюши стечением обстоятельств. Костя с Марусей пару раз приходили к Кирюше и Любаше в гости, и те очень радушно их встречали, накрывали на стол, наливали выпить, именно там Маруся, впервые после долгого перерыва, наконец-то поела настоящего украинского борща с мясом, он был такого ярко-красного цвета, жирный, наваристый, и подавала его Любаша тоже в очень красивой фарфоровой супнице. Любаша вообще очень хорошо готовила, принимала у себя много гостей, и у нее была очень красивая посуда, тарелки и салатницы с выпуклыми донышками, отчего наложенных в них продуктов всегда казалось чуточку больше, чем их там было на самом деле. Спиртного у них в доме тоже всегда было достаточно, но рюмки для водки у Любаши тоже были совсем крошечные, поэтому одну бутылку могло пить огромное количество гостей очень долго. Помимо сравнений с Иванушкой-Дурачком, Любаша еще несколько раз намекала Марусе на то, что ее Кирюше совсем ничего не надо в этой жизни, что он, как и Костя, создан только для того, чтобы мыслить, и если бы не вся эта суета и все эти бессмысленные стечения обстоятельств, вынесшие его на вершину славы и благополучия, то он вполне мог бы жить и на помойке. В это время как раз приближался шестидесятилетний юбилей Кирюши, который был старше Любаши почти на двадцать лет, и она была уже, кажется, пятой по счету его женой, и Маруся не исключала, что Любаша таким образом, как бы тактично и ненавязчиво, пытается подвести ее к некоторым темам его большого юбилейного интервью для все той же московской газеты, в которой Маруся тогда все еще печаталась и которое, как она успела обмолвиться при Любаше, было ей там уже заказано. Марусино интервью с Кириллом Пересадовым в конечном итоге, как и было задумано, появилось в этой газете точно в срок, Маруся в нем всячески постаралась учесть все эти скрытые намеки и тактичные любашины пожелания, оттенить все ответы ее Кирюши таким образом, чтобы он предстал в этом интервью именно в образе непритязательного Иванушки-дурачка, человека, следующего путем даосского недеяния и непротивления, и готового покорно и безропотно принимать все свалившиеся на него удары судьбы, для которого важнее всего в жизни мысль, творчество, и который, если бы не благоприятное стечение обстоятельств, вполне мог бы даже жить и на помойке, голодать, в общем, подвергаться всяческим притеснениям и унижениям, которые в это время переживали многие рядовые граждане России. Вместе с тем, в небольшой вступительной заметке к этому интервью, она совершенно без задней мысли, не желая никого задеть, просто для того, чтобы как-то немного обыграть постмодернистское смешение вещей и стилей в обстановке, окружающей писателя Пересадова, она все-таки вскользь, буквально одним словом, упомянула только что закончившийся евроремонт в его московской квартире. Это случайно оброненное слово вызвало совершенно неожиданную в тот момент для Маруси бурную реакцию Любаши, которая привела к их первой размолвке, после которой Любаша и Кирюша не общались с Марусей в течение года.
***
Руслан всюду носил с собой слуховой аппарат, его глухота была следствием болезни, связанной с мозгом, которая обрушилась на него совершенно неожиданно. Он как раз собирался в Америку на фестиваль современной музыки и уже полетел туда, но в самолете ему стало плохо, ужасно болела голова, поэтому он вернулся в Петербург. Руслан уверял Марусю, что ему неоднократно предлагали сделать операцию, которая могла бы вернуть ему слух, но ему не хотелось лежать целый год со снятой черепушкой и открытым мозгом, откуда будут торчать разноцветные трубочки, и каждый, при желании, сможет покопаться в его мозготуре — так было с одним его приятелем, который ослеп, и который, правда, после этого все же стал кое-что видеть.
Злые языки говорили, что у Руслана СПИД, говорили также, что он вообще ничего не слышит и слуховой аппарат носит просто для видимости, поэтому его всегда обязательно кто-нибудь сопровождал, чаще всего какой-нибудь юноша. Кроме того, как инвалиду первой группы Руслану полагались большие скидки на транспорте, эти льготы распространялись и на его спутников, и этим часто пользовались его знакомые, которые охотно ездили с ним в Москву и другие города. Другие же наоборот, уверяли, что Руслан имитирует глухоту, чтобы подслушивать чужие разговоры и плести интриги. Как могла заметить Маруся, Руслан научился довольно хорошо распознавать общий смысл сказанного по губам собеседника, кроме того, общаясь с ним, Маруся постепенно овладела основными жестами сурдоперевода, но если в помещении было слишком темно, или собеседник находился сзади от него, то Руслан вообще никак не реагировал на обращенные к нему слова, так что, скорее всего, он действительно ничего не слышал.
Тем не менее, Руслан регулярно посещал все более или менее значимые концерты в филармонии, куда обычно приходил во фраке с в каким-то старинным орденом в виде восьмиконечной звезды на левом лацкане и с тростью. Он всегда садился в первый ряд и в течение всего концерта сидел совершенно неподвижно, склонившись вперед и положив подбородок на трость с золотым набалдашником, закрыв глаза и как бы внимательно слушая. После концерта он обязательно отправлялся за кулисы, где по очереди жал руку всем исполнителям и дирижеру, поздравляя их с замечательным исполнением.
Сам он тоже продолжал сочинять музыку, правда, в последнее время все его сочинения представляли из себя, главным образом, коллажи. У него дома был целый пункт звукозаписи, почти как на радио, и даже профессиональный магнитофон с огромными бобинами, при помощи которого Руслан и конструировал свои коллажи, склеивая наугад куски пленки с записями симфонических произведений разных композиторов, чаще всего это были Вагнер и Карл Орф, которых он особенно любил. Работу над очередным своим произведением Руслан заканчивал не реже, чем раз в месяц, и всякий раз неизменно устраивал организованную с большой помпой премьеру. Печаталось огромное количество пригласительных билетов, которые обычно начинались с фразы: «Академия Мировой Музыки имеет честь пригласить Вас на премьеру симфонического сочинения классика современной мировой музыки Руслана Серебрянского» и далее: «Концерт состоится в Большом концертном зале Академии по адресу…» Приглашения рассылались в мэрию, Союз композиторов, журналистам и просто знакомым.
«Большой концертный зал» находился на чердаке расселенного и уже несколько лет простаивающего в ожидании капремонта дома, куда надо было подниматься по темной из-за отсутствия лампочек, грязной лестнице без перил, на дверях чердака белой светящейся в темноте люминисцентной краской была нарисована огромная лира с порхающим над ней крохотным голубком. В самом же зале повсюду были расставлены сбитые из досок скамейки для зрителей, а у стены из таких же досок была сколочена небольшая сцена со столом, на который во время премьеры и выставлялся магнитофон с двумя колонками для прослушивания очередного сочинения Руслана, которое обычно длилось не меньше двух-трех часов. Сам Руслан сидел на стуле в зале так же неподвижно, как в филармонии, и наблюдал за происходящим вместе со зрителями. Над сценой висел огромный плакат: «Сейте разумное, доброе, вечное!». На стене слева от сцены была укреплена небольшая стеклянная витрина, за которой на полке стояла пустая металлическая банка, к витрине была привинчена медная табличка с выгравированной на ней надписью: «Банка из-под супа „Кэмпбелл“. Подарок Энди Уорхолла. Нью-Йорк, 1985 год».
Из-за того, что помещение чердака отапливалось только при помощи переносных обогревателей, иногда зимой во время сильных морозов концерты приходилось отменять, но и осенью, и весной на чердаке было не жарко, так что зрители, как правило, сидели там прямо в пальто. Иногда, правда, премьеры проходили в иной, более торжественной обстановке.
Один из таких особо торжественных премьерных концертов хорошо запомнился Марусе, так как он увенчался громким скандалом. Накануне Девятого Мая, Дня Победы, Фонд помощи жертвам Холокоста при поддержке Фонда Сороса наметил провести Фестиваль Современного Искусства, в рамках которого, помимо выставки живописи в Манеже, должен был состояться праздничный концерт в Малом зале Филармонии. Каждый из участников, проект которого был предварительно одобрен организационным комитетом, помимо всего прочего, получал еще и крупную сумму денег, необходимую для реализации своего замысла. Поэтому Руслан тоже заявил Большую Симфоническую Ораторию, посвященную жертвам нацизма, и этот проект, в числе прочих, был одобрен организаторами.
Накануне премьеры, о которой, как обычно, с помпой было объявлено петербургской общественности, все сотрудники Академии Мировой Музыки собрались около дома, где располагалась Академия, и где их уже ждал специально арендованный автобус. На сей раз, так как премьера была в Малом зале Филармонии, предполагалось поставить фонограмму, а большинство из них должно было изображать хор и музыкантов, имитируя игру на скрипках, рояле, барабане, виолончели, на которых почти никто играть не умел и которые были спешно позаимствованы у знакомых или взяты напрокат. Дирижировать должен был Светик, а сольную партию в хоре поручили исполнить Николаю. Николай, как всегда, опаздывал и, видимо, должен был подъехать прямо к Филармонии, Светик же всю дорогу пребывал в диком возбуждении, бегал по автобусу и просил у всех пятьдесят рублей на водку, обещая сегодня же вечером отдать. Потом он немного успокоился и стал приплясывать под звуки Седьмой, Ленинградской, Симфонии Шостаковича, которую Руслан поставил в записи на полную громкость: эта симфония, в частности, звучала в музыкальной передаче, которую Руслан вел на одной из молодежных питерских радиостанций. Симфония периодически прерывалась биографическими справками из жизни Шостаковича, комментариями Руслана, а также не имеющими прямого отношения к теме передачи его обращениями к питерской молодежи: «Дети, отнимайте у своих родителей наркотики и порнографию. Не разрешайте им пить и курить!»- вообще-то, на этом месте должна была быть рекламная заставка, но Руслан настоял, чтобы звучала именно эта фраза. Вскоре передачу все-таки сняли с эфира, и скорее всего, именно из-за этого.
Оратория называлась «Розовые треугольники», поэтому у всех оркестрантов и хористов на полосатых робах заключенных были наклеены розовые треугольники -— так нацисты в концлагерях метили гомосексуалов. Кроме того, каждый из них имел при себе свечу, так как все происходящее, отчасти, было стилизовано под прощальную симфонию Гайдна. Когда хор и оркестранты расположились на своих местах, на сцене появился Светик в костюме Людовика XIV и в огромном белом парике, сильно напудренный и накрашенный, что тоже было стилизовано под Гайдна. Помимо всего прочего, на возвышение, где должен стоять дирижер, он зачем-то еще поставил небольшую табуреточку и встал на нее, кокетливо и жеманно кланяясь и посылая во все стороны воздушные поцелуи. Вскоре в зале погас свет, скрипачи вскинули смычки, Светик взмахнул дирижерской палочкой и тут раздались первые аккорды известного сочинения Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», которое Руслан почему-то решил выбрать в качестве вступления. Далее у него должны были звучать отрывки из «Кольца Нибелунгов» Вагнера и «Кармина Бурана» Карла Орфа. Однако до них на сей раз дело не дошло. При первых звуках музыки на сцену с накрашенными губами, синей бородкой и в золотых колготках, в костюме а-ля Людвиг Баварский жеманной походкой вышел Николай. Нашить на свои наряды розовые треугольники и Светик, и Николай категорически отказались.
Тут в зале воцарилась гробовая тишина. Светик продолжал кланяться во все стороны с дирижерской палочкой в руках, старательно имитируя управление оркестром, при этом грациозно балансируя и едва удерживаясь на шаткой табуретке. В момент же, когда Николай сладким, как у Фредди Меркьюри, голосом затянул: «Треугольник, треугольник, мне сегодня очень больно…» — этот текст был накануне написан Светиком по просьбе Руслана и также оплачен ему из выделенных организаторами денег, так как все это было заранее включено в смету — в этот момент какая-то злобная старушка из третьего ряда, вся обвешанная золотом, с воплем: «Это совсем не смешно!» — внезапно бросилась к сцене и столкнула Светика с табуретки. В зале поднялся невообразимый гвалт, Светик с грохотом рухнул прямо на музыкантов, зацепив своим роскошным шелковым плащом, сшитым накануне из вечернего маминого платья, канделябр, от упавших свечей даже загорелся воздушный шарфик, обвивавший его шею, но фонограмма музыки «Так говорил Заратустра» продолжала звучать все громче и громче. В это мгновение Руслан, который, как обычно, сидел в первом ряду, резко повернулся к залу и широким жестом швырнул туда пачку заранее заготовленных программок и оставшихся у него пригласительных билетов, в которых было обозначено название сочинения — «Розовые треугольники» и посвящение — «Рудольфу Гессу». Далее шла небольшая аннотация, из которой следовало, что «Рудольф Гесс покинул Германию и улетел в Англию из-за своей сексуальной ориентации, так как не мог выдержать преследования гомосексуалов и опасался за свою жизнь — перед его глазами постоянно маячил печальный призрак Эрнста Рема».
***
В следующий раз, когда Маруся приехала в Вырицу, Самуил Иосифович вдруг, совершенно неожиданно для нее, начал говорить сам, безо всяких вопросов, которые она заранее приготовила, и еще не успела открыть рот, чтобы их озвучить; на сей раз он уже рассказывал ей о том, как ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств. Он тогда должен был сначала заполнить пространную анкету с множеством вопросов, в том числе, и по поводу родственников, где они похоронены, кто они, откуда, не был ли у него кто в плену, не живет ли кто за границей, и т.д. и т.п. В графе с вопросом, где похоронен его отец, он поставил прочерк, а потом, когда его спросили, что это, почему он здесь поставил такой значок, он так прямо и сказал: «Ну это уж вам лучше знать, где он похоронен!«,- и от него отвязались, приняли анкету с этой черточкой, даже переписывать не заставили.
А когда он эту анкету сдавал, то случайно попал на заседание то ли горкома, то ли обкома — Маруся не совсем поняла — во всяком случае, за столом там сидели люди в до неприличия чистых рубашках, и обсуждали они как раз разнарядку на то, сколько и каких новых артистов и режиссеров можно в этом году принять в Союз Кинематографистов, а когда кто-то назвал фамилию «Шифман», или что-то вроде того, то один из сидевших сразу же вскочил и запротестовал, мол, это же еврей, а другой ему возразил, что ничего, одного можно. А он сидел в углу со своей анкетой и думал, что сейчас просто сдохнет от хохота, и его тогда выведут и отправят в психушку…
А в другой раз его сосед по даче в Вырице, крупный номенклатурный работник в роскошном драповом пальто, выгуливая собаку, часто попадался ему навстречу, и так было в течение всего сентября, когда он здесь жил, а однажды, идя ему навстречу, он вдруг не выдержал и сказал, глядя на Самуила Иосифовича: «И у нас на работе есть один, извините за выражение, еврей!»… Все это уже относилось к началу семидесятых, и Маруся поняла, что сегодня ей тоже не повезло.
Маруся приезжала к Самуилу Иосифовичу не меньше пяти раз в течение месяца, и за это время узнала много интересного, не только о детстве Самуила Иосифовича, но и о его преклонных годах, работе с иностранными и нашими режиссерами, о технологии производства фильмов и костюмов для них, из какого материала их обычно шьют , и куда потом отправляют, и какой это вообще неблагодарный труд — художника по костюмам в кино- как быстро в конце потом мелькает его фамилия в титрах, так, что даже никто и прочитать толком не успевает, и еще много-много чего, в том числе, и про соседей Самуила Иосифовича, один из которых, очень хороший человек, почти всю жизнь провел в тюрьме; другой в тридцатые годы служил в НКВД и изобрел специальную пытку, в своем роде уникальную и простую, как все гениальное, так как для нее требовалось всего два табурета, один ставили на другой, а сверху сажали связанного заключенного, потом табурет снизу резко выдергивали. Также где-то неподалеку от Самуила Иосифовича жила старушка, которая в юности была влюблена в моряка дальнего плавания, который вел очень широкий образ жизни, веселился, ходил по ресторанам, а на нее внимания совсем не обращал, поэтому она пошла и написала на него донос. На этот факт Самуил Иосифович наткнулся как-то случайно в одной публикации в начале
-А помните ли вы Перовского, Мария Игнатьевна?
-Не помню я никакого Перовского, отстаньте от меня! — сказала она и захлопнула у него перед носом дверь…
Про Роальда Штама же за все это время, помимо самой первоначальной и удачно схваченной информации о том, что он был очень бледный и эрудированный, Марусе удалось выудить только то, что он страдал от астмы и от этого пристрастился к эфедрину, а также еще и то, что «маресьевцы» собирались в квартире неподалеку от Калинкина моста, где по ночам устраивали оргии. В конце концов, и это было неплохо. И Маруся сказала, что все, пожалуй, пока достаточно, она узнала все, что хотела, и того, что ей наговорил Самуил Иосифович про Роальда Штама, ей хватит уже на десять огромных статей, и так всю эту информацию ей будет очень трудно переработать, перенося ее с диктофона на бумагу, и что если дальше она будет слушать все эти бесконечные подробности из жизни Роальда Штама, то просто не успеет к сроку, а его юбилей уже на носу… Самуил Иосифович сначала с ней не согласился и сказал, что напрасно она так спешит, он еще многого ей не рассказал, что могло бы ее заинтересовать, но, с другой стороны, нельзя объять необъятное — что есть, то есть, раз уж ей некогда, то тут ничего не поделаешь…
Вместе с тем, он очень бы хотел ознакомиться с тем, что конкретно из его слов войдет в статью Маруси о Штаме, для него это было очень важно, потому что он опасался, что мог случайно наболтать чего-нибудь лишнего. Маруся ответила ему, что ничего страшного, сейчас в газетах, вообще, пишут черт знает что и никому до этого нет никакого дела, потому что их уже давно никто не читает, а если и читают, то очень невнимательно, все привыкли; просто люди слишком устали от огромного потока новой информации, обрушившегося на их головы. Но Самуил Иосифович настаивал на своем, пусть она и права, но на свои слова он все-таки должен посмотреть.
И через пару дней, Маруся принесла ему все, что он сказал про Роальда Штама, а все это уместилось в несколько строчек печатного текста, где было написано только, что это был очень бледный, замкнутый, очень начитанный и эрудированный юноша, который страдал от астмы и поэтому пристрастился к эфедрину, он также был близок к группе художников-«маресьевцев», снимавших квратиру неподалеку от Калинкина моста, где они по ночам устраивали оргии. Однако и этих нескольких строчек хватило, чтобы Самуил Иосифович, ознакомившись с ними, вдруг вскочил и нервно забегал по комнате: «Вы что, Маруся, с ума сошли! Я никогда такого не говорил, уберите, уберите это немедленно!«,- он имел в виду астму, эфедрин и оргии; малейшее упоминание об этом Самуил Иосифович потребовал от Маруси убрать и, не дай бог, даже в устной форме никогда об этом никому не говорить. Он был согласен, чтобы в ее статье остались только его слова о том, что это был очень бледный и эрудированный юноша, больше там ничего с отсылкой на Самуила Иосифовича быть не должно ни в коем случае. И Маруся вынуждена была клятвенно ему подтвердить, что она выполнит его настоятельную просьбу, оставив только то, что он от нее требует.
На прощание, немного успокоенный марусиными заверениями, что она будет строго следовать его воле, Самуил Иосифович сказал, многозначительно глядя на нее:
— Ах Марусенька, поверьте мне, все в этом мире не так просто, как вы думаете, все еще очень много раз может измениться, и так, как вы даже и представить себе не можете!
***
Маруся зашла в офис к Васе, он был в Москве, поэтому там никого не было, кроме Лили. Маруся не была здесь уже с того самого времени, когда они вернулись из Канн. Лиля сидела за компьютером очень мрачная и даже не сразу заговорила с Марусей, что на нее было не похоже. Оказывается, неделю назад, перед самым васиным отъездом в Москву, здесь произошла ужасная вещь, после которой Лиля даже не знала, оставаться ей тут работать или нет, настолько ей все вокруг опротивело, хотя она точно не знала, правда это, или Александр Петрович опять ей все наврал, чтобы ее достать и испортить ей настроение, но он уверял, что все произошло на его глазах, так как он тоже во всем этом участвовал и даже этим, кажется, гордился.
Речь шла о любимой лилиной белой болонке Тотошке, которую Александр Петрович всегда терпеть не мог. Болонка жила прямо в офисе и даже снялась в ролике, рекламировавшем васину передачу, в роли «Му-му». Александр Петрович утверждал, что уже давно, лет двадцать назад, одна цыганка нагадала Васе, что в год, когда время приблизится к нулю, а он сам будет находиться в зените своей славы и достигнет наивысшего благополучия, все его дела могут разом пойти под уклон, более того, с ним может случиться ужасное несчастье, если он не отдаст свой долг, то есть не исполнит того, благодаря чему обрел славу и богатство. Сначала Вася ничего не понял в этом предсказании и вообще вскоре забыл про него. Но после того, как в Америке замочили Версачче, он пару недель ходил сам не свой, ведь ему уже несколько раз на снегу являлась белая рубашка от Версачче, и это был не иначе, как знак. После этого он вдруг и вспомнил про это предсказание и снова стал ломать над ним голову, пока Графов с «Русского видео», по прозвищу Чипс, не подсказал ему, что все очень просто, тут и думать нечего, он должен утопить собачку, которая снята в рекламном клипе его передачи, и тем самым повторить то, что сделал Герасим с Му-му, ведь он же прославился именно благодаря этой Му-му; и сделать это нужно немедленно, во всяком случае, до конца двухтысячного года, так как этот год с тремя нулями, что и означает время, приблизившееся к нулю…
Васе почему-то все это показалось очень убедительным, он был прямо поражен, насколько все так точно совпало; после этого Вася буквально зациклился на этой идее, что ему нужно утопить эту несчастную болонку, а та как будто это чувствовала и всякий раз, когда Вася заходил в офис, с визгом убегала от него и пряталась под стол, но это его только еще больше подзадоривало, не мог же он пожертвовать собой из-за какой-то шавки. В конце концов, в прошлую субботу, когда у Лили и остальных был выходной, Вася и Александр Петрович заехали в офис на новеньком джипе, за рулем которого сидел Никифор Шнитко.
Они забрали собачку и отправились в яхт-клуб, где их уже ждал Чипс, который был яхтсменом и арендовал там яхту, на которой они и отплыли в путешествие по заливу, предварительно напившись до чертиков.
Шнитко остался ждать их в машине на берегу. Он служил управляющим Бутика Версачче, обычно он был одет в строгий черный костюм-тройку с галстуком и торчавшим из нагрудного кармана шелковым платочком, в квадратных очках, что делало его очень похожим на директора магазина похоронных принадлежностей. Маруся с Русланом несколько раз заходили к нему в этот Бутик, и всякий раз он заставлял их подолгу стоять и ждать у входа, из Бутика как будто тоже пахло ладаном, и вообще весь магазин производил на Марусю впечатление настоящего похоронного бюро: мрачные неприветливые охранники и продавцы, а также фотография Версачче в траурной рамке, установленная на прилавке сразу напротив входной двери, усиливали это ощущение. Руслан рассказывал Марусе, что в свое время Шнитко работал сантехником, а потом, якобы, устроился в Смольный, во всяком случае, он всем об этом говорил; но однажды, когда Руслан как-то зашел к нему туда, ему пришлось долго ходить по этажам, отыскивая кабинет, который Никифор указал в своей визитке, пока он наконец не натолкнулся на него у входа в огромный зал, где работало, по меньшей мере, сто машинисток, а Никифор скромно сидел у самой двери на стульчике в форменном пиджаке, какие носили все вахтеры Смольного…
Вася сначала хотел, чтобы именно Чипс бросил собачку за борт, и даже предлагал ему за это сто баксов, но тот отказался, потому что считал, что это должен сделать сам Вася. Тогда Вася поднял болонку и с размаху швырнул ее далеко за борт, таким театральным жестом, как Стенька Разин персидскую княжну, он был уже так пьян, что едва держался на ногах; а Александру Петровичу он ничего даже и не предлагал, а то бы он тоже не отказался это сделать, особенно за сто долларов — во всяком случае, именно так он и сказал об этом Лиле.
Графова Маруся тоже знала, видела его однажды на пресс-конференции в «Прибалтийской», где он представлял свое агентство «Crazy-Шанс», делился своими планами по возрождению петербургской культуры, которая, по его словам, находилась в глубокой жопе. С этого обобщения он, собственно, и начал свое выступление перед журналистами, а когда один из них попытался ему возразить, он сразу же пообещал поставить ему памятник из говна, когда тот наконец сдохнет в этой удушливой атмосфере, которая теперь воцарилась в Петербурге, если он, конечно, человек, а если он сам говно, то тогда ему должно быть здесь очень комфортно и уютно, и он может спокойно продолжать здесь жить.
Пресс-конференция проходила в июле, стояла ужасная жара, и сам Графов был в одной футболке и джинсах, зато юноша, которого он привел с собой и тоже представил журналистам, был одет по полной форме — в фиолетовом пиджаке и галстуке, отчего у него со лба градом лился пот. Это, по словам Графова, был некий Саша Вепрев, восходящая звезда российской эстрады, «русский Хулио Иглессиас», он только что приехал из Кемерово, где солировал в группе «Святые зайцы». Он прислал кассету с записями своих песен Графову, и те ему так понравились, что он сразу же пригласил его в Петербург. Теперь он собирался сделать из него звезду первой величины, точно так же, как когда-то одна звезда советской эстрады «сделала» его, после того, как он, будучи выпускником кулинарного училища, залез к ней в окно; правда некоторое время ему пришлось еще побыть в «шестерках» у Барри Каримовича, хотя и «козырных», но теперь он решил окончательно стать «тузом», так как тусоваться в одной колоде с Лисом, Шпицем и Крутым ему остоебенило, потому что те делают не поп-музыку, а музыку в попе, а делать музыку в попе, да еще находиться в жопе, то есть жить в Петербурге — это уже слишком… В конце концов, надо было что-то предпринимать, спасать культуру! Но для этого нужны бабки, и они теперь у него имеются, не будем говорить откуда, потому что и у стен есть уши, а если кто-нибудь ему скажет, что без бабок, будь у тебя даже голос, как у Каррераса, тебя кто-нибудь в этом мире услышит, то тому он тоже готов поставить памятник из говна, потому что звезды зажигают только тогда, когда это кому-нибудь нужно… А нужен был, к примеру, кому-нибудь Саша Зайцев, точнее, Вепрев, этот застенчивый юноша из города Кемерово, которого все теперь видели перед собой?! Лично он в этом сильно сомневался, он не дорос еще даже до того, чтобы ему тут предоставили слово, потому что пока это был всего лишь товар, хотя и качественный, в который он вложил свои деньги, а дивидендов пока что не получил. И пусть ему не возражают, он этого не любит, хотя и с большим уважением относится к представителям прессы, но Саша здесь говорить все равно не будет. Если кто-то хочет, может даже задать ему вопрос, но Саша все равно ему не ответит, так как он будет действовать так, как ему скажет он, Графов, а не тот, кого он сегодня впервые увидел в этом зале…
После лилиного рассказа у Маруси резко испортилось настроение, она вышла на улицу, где было темно и холодно, ведь уже начался ноябрь. Сто долларов ей бы сейчас тоже очень не помешали, хотя собачку, конечно, она бы топить не стала, ни за какие деньги, хорошо еще, что Вася завел ее уже после того, как она перестала с ним работать, и Маруся ее ни разу не видела, а то бы у нее еще больше испортилось настроение. Но, скорее всего, Пилипенко все наврал, это было очень на него похоже, и уже завтра он притащит в офис эту болонку, которую забрал к себе домой, воспользовавшись васиным отъездом в Москву, чтобы напугать Лилю. Вообще, Маруся старалась отогнать эти мысли от себя, у нее и так хватало своих неприятностей…
***
Руслан приступил к осуществлению своего нового проекта — балета «Колдовское озеро». Это был его первый опыт в области хореографии, поэтому он очень волновался — так, во всяком случае, он сказал Марусе, когда предложил ей помочь подыскать исполнителей для его балета. Главным образом, ему не хватало нескольких девушек или, еще лучше, девочек для танца маленьких колдунов, который должен был стать центральной сценой балета — как танец маленьких лебедей в «Лебедином озере» Чайковского, музыку которого, к тому же, Руслан собирался использовать и для этой сцены, и для некоторых других. Девочки должны были танцевать в платьях с блестками и с маленькими волшебными палочками в руках, лейтмотивом же должна стать мелодия известной песни «Колдовское озеро», аранжировку которой для симфонического оркестра было поручено сделать Николаю, так как он был едва ли не единственным членом Академии Мировой Музыки, немного знакомым с нотной грамотой и основами композиции.
Однако в Академии катастрофически не хватало музыкальных инструментов, точнее, инструменты были, но все они были либо сломаны, либо полностью расстроены, либо неукомплектованы: барабану, например, не хватало барабанных палочек, а на пять скрипок и два контрабаса, которые были в более-менее сносном состоянии, приходился всего один смычок, и тот, как выяснилось, не подходил ни к тем, ни к другим, скорее всего, это был смычок от альта; было еще несколько заржавевших и покрытых зеленой патиной горнов и труб,- все эти инструменты валялись в куче в небольшой кладовке за сценой концертного зала Академии Мировой Музыки, того самого, что располагался на чердаке, и доставались оттуда, в основном, только для того, чтобы члены Академии могли сфотографироваться с ними для газет и журналов, главным образом, немецких и американских; если нужен был групповой снимок, то члены Академии разбирали инструменты и рассаживались с ними на сцене в виде оркестра. В центре, как правило, садился Руслан, в руках он держал смычок, который в этом случае заменял ему дирижерскую палочку. В углу сцены стояло еще старое пианино фирмы «Мюллер и Ко», но на нем можно было играть всего час, после чего оно начинало жутко дребезжать и нуждалось в новой настройке. Сначала его пытались поддерживать в рабочем состоянии и периодически настраивали, а потом всем это надоело, и на пианино махнули рукой. Правда, среди всей этой рухляди были еще две арфы, которые внешне выглядели вполне прилично, но играть на них все равно никто не умел.
Вообще практически никто из членов Академии не умел играть на музыкальных инструментах, за исключением, опять-таки, Николая, и еще двоих, Могучего и Кучкина; на самом деле, их фамилии были Сорокин и Добычин, они были родом из Саратова, где закончили детскую музыкальную школу: один по классу фортепиано, а другой — баяна. Во время юбилейных премьер — а таковыми считались премьеры каждого десятого музыкального сочинения Руслана — Могучий и Кучкин, облаченные в римские тоги, с лавровыми венками на головах, и держа перед собой арфы, рассаживались по краям сцены, по обе стороны от Руслана, который тоже, в виде исключения, поднимался на сцену и садился за стол, на котором стоял магнитофон, лицом к зрителям; во время обычных премьер Руслан не покидал зала.
К настоящему моменту Руслан был автором уже двухсот сорока девяти симфоний, концертов и ораторий, поэтому его новый балет и имел для него такое значение, ведь он должен был завершить целый этап его творческого пути, одновременно вобрав в себя все основные достижения мировой музыки уходящего тысячелетия; во всяком случае, именно так было написано в обширном проспекте, с которым Руслан предложил ознакомиться Марусе, чтобы она могла лучше осознать, что от нее, собственно, в данном случае требуется, а Марусе Руслан предложил стать продюсером балета, так как он вообще считал, что ко всему нужно подходить профессионально. На данный момент, кроме нескольких девочек, ему были нужны еще режиссер-постановщик и хореограф, подыскать которых он и поручил Марусе.
С девочками в Академии, действительно, были проблемы, так как ее костяк составляли, в основном, молодые люди; имелись, правда, еще ученики, среди которых даже несколько студентов Консерватории. Обучение в Академии было платным, и все ученики разделялись на два курса, которые возглавляли профессора Академии Могучий и Кучкин. Но, во-первых, среди учеников тоже преобладали юноши, а во-вторых, по мнению Руслана, учеников нельзя допускать к участию в таком важном деле, так как это было бы в высшей степени не профессионально и могло бы профанировать столь грандиозный замысел. Нет, уж лучше найти кого-нибудь на стороне. В состав Академии входило всего две женщины, но одной было уже за сорок и после того, как ее муж прыгнул с моста в Фонтанку и утонул, она очень редко появлялась в Академии и почти все время пребывала в состоянии запоя. Другая же, Елена Студебеккер, казалось, вообще была способна ходить только по прямой, никуда не сворачивая, это впечатление еще усиливалось каким-то маниакальным упорством ее неизменно устремленного в одну точку взгляда, во всяком случае, ее Маруся не могла себе представить в роли танцовщицы.
Николай поначалу с большим энтузиазмом взялся за порученную ему аранжировку, однако, примерно через месяц, он принес Руслану мини-диск, на котором, вместо «Колдовского озера», было уже записано целое попурри из песен Арно Бабаджаняна, перемежавшихся мелодиями Андрея Петрова — этих двух композиторов Николай очень любил и часто пел их песни в ночных клубах. Некоторые проблески симфонизма появлялись только в самом конце, когда вступал настоящий оркестр со скрипками и литаврами, но и то только для того, чтобы исполнить «Танец с саблями» из «Спартака», а «Колдовское озеро» исчезло вовсе, на него не осталось даже намека — Николай потом признался Марусе, что ему вообще никогда не нравилась эта дурацкая песня… Руслан, естественно, сразу же все забраковал, так как это полностью противоречило его концепции будущего балета.
В связи с тем, что симфоническое переложение песни «Колдовское озеро» оказалось невозможным, на общем собрании Академии было решено, что песня будет звучать в том виде, в каком она обычно исполняется, то есть вся целиком, начиная со слов: «Колдовское озеро — это не в лесах, это, это озеро у тебя в глазах», периодически прерываясь то литаврами из вагнеровского «Кольца Нибелунгов», то музыкой Чайковского,- после того, как песня заканчивалась, все начиналось сначала, и так несколько раз, до финальной сцены. Либретто на сей раз поручили написать не Светику, а Сергею Бобкову, который считался правой рукой Руслана, был в Академии хранителем нот и издавал ежемесячную газету «Нерон-Плюс». Бобков был женат на американке из Бруклина, которая когда-то у себя на родине изучала философию в Университете, поэтому Бобков называл ее не иначе как «мой философ» — она, обкурившись, уже несколько раз выпрыгивала из окна их квартиры, но квартира, к счастью, находилась на втором этаже, поэтому пока все заканчивалось благополучно.
Идея балета, в целом, у Руслана уже созрела. Главную роль Вагнера, который по ночам превращался в Колдуна, должен был исполнить Светик, Николаю же поручалась роль Людвига Баварского. Эти обе роли считались главными, так как Николай и Светик очень ревниво относились друг к другу, поэтому Руслан сразу же оговорил, что обе партии должны длиться одинаковое количество времени и будут выверены с точностью до секунды. Интрига заключалась в том, что Вагнер (он же Колдун) пытался всячески обворожить и околдовать Людвига, последний же был крайне ветреным и все время увлекался маленькими колдунами, чем причинял огромные страдания Вагнеру. В результате, Вагнер, измученный непостоянством Людвига, однажды не выдерживает, принимает яд и умирает. Он падает на землю и превращается в огромное Колдовское озеро. Перед тем, как умереть, Колдун-Вагнер исполняет танец Умирающего Колдуна — разумеется, на музыку Чайковского. А Людвиг даже не замечает исчезновения Вагнера, он продолжает развлекаться с мальчиками и веселиться, но однажды он идет по лесу и натыкается на большое голубое озеро, которое неотвратимо влечет его к себе, Людвиг лишается рассудка, бросается в озеро и тонет. В это время звучат слова песни: «Колдовское озеро, голубой магнит…»
***
В Праге в аэропорту Марусю встречала засушенная изможденная баба, Алиса, с табличкой на груди, где большими буквами были выведены марусины имя и фамилия. Как только они опознали друг друга, Алиса, едва кивнув Марусе, повернулась к ней спиной и гордо пошла вперед, виляя задом и небрежно раскручивая на пальце связку каких-то ключей, и даже что-то про себя напевая, всем своим видом как бы стараясь показать Марусе, что это не она ее встречает, а сама Маруся привязалась к ней и никак не отстает, и что она ее уже изрядно достала своим присутствием и ей надоела.
Раньше Алиса преподавала в школе русский. По дороге в такси она жаловалась Марусе на то, какие у них здесь в Праге маленькие зарплаты, хотя ей все-таки, по сравнению с другими, еще повезло, потому что ей все же платили значительно больше. Конечно, ей платили не так много, как корреспондентам и редакторам их радиостанции, потому что те уже получали настоящий оклад, какие обычно получают журналисты в Европе и Америке. Помимо того, квартиры, которые они снимали, им тоже оплачивали, а так как Прага, из-за все тех же небольших зарплат ее коренных жителей, была чуть ли не самым дешевым городом в Европе, то иностранцам жить там было очень выгодно, по этой же причине туда приезжало такое огромное количество туристов. Маруся знала, что это действительно так, потому что то же самое ей говорила в Каннах васин продюсер Анка, которая тоже из-за этой дешевизны предпочитала постоянно жить именно в Праге.
Все стажеры, включая Марусю, должны были жить в многоквартирном доме, неподалеку от центра, один подъезд которого для них специально был заранее арендован. Маруся прибыла в Прагу на день раньше, чем остальные, и поэтому все квартиры были еще свободны. Сначала Алиса предложила ей просторную комнату на четвертом этаже — предполагалось, что в соседней с ней комнате будет жить какая-то албанка, правда, прихожая была общая, но туалет и ванная у каждого были свои — однако Маруся подарила ей небольшую шоколадку, которую она еще не успела съесть, и Алиса вдруг засуетилась и сказала, что она может подобрать ей комнату еще и лучше, более удобную, в результате Маруся поселилась в комнате на втором этаже, которая ничем не отличалась от первой, и была даже менее удобной, потому что в ней вообще не было зеркала, но раз уж они туда спустились, Маруся согласилась там жить, просто потому, что ей было лень подниматься обратно. Потом она об этом немного пожалела, из-за шума под окнами по ночам, так как на улице, напротив их парадной, располагалась стоянка машин, а в этом районе было очень много ресторанов, посетители которых начинали расходиться около двух часов ночи и практически все собирались под окном Маруси, с шумом хлопали дверцами, вопили и пели песни, отчего она часто не высыпалась.
Маруся сразу же пошла немного прогуляться по Праге. К себе в комнату она вернулась где-то часа через три, однако, когда она открыла дверь, то вдруг услышала пронзительный визг и с удивлением увидела, что на ее постели возятся какие-то мужик и баба, баба уже была совсем раздета, а у мужика были спущены штаны; увидев на пороге Марусю, баба завопила диким голосом и натянула на себя одеяло. Оказывается, мужик и баба, точнее, парень и девка лет восемнадцати, приехали в Прагу из Калифорнии, так как решили провести здесь свой медовый месяц — они говорили только по-английски — а эту квартиру на одну ночь им тоже сдала на вокзале какая-то женщина, по их словам, очень худая и внешне похожая на Алису… Видимо, Алиса, для того, чтобы пополнить свой скромный бюджет, действительно сдавала эти комнаты иностранцам на одну ночь до приезда стажеров, а из-за того, что она решила ей угодить и предоставить комнату поудобнее, она все перепутала и сдала этой паре именно марусину комнату. Маруся объяснила им, что это она здесь живет. Те, в свою очередь, тоже ничего не могли понять и тупо смотрели на нее широко открытыми от ужаса глазами, баба уже натянула на себя платье, а парень по-прежнему стоял со спущенными штанами. В конце концов, они все-таки оделись и, пятясь спиной к дверям, с подозрением глядя на Марусю, очистили помещение. Маруся говорила по-английски с акцентом, значит, они наверняка приняли ее за местную, а местных, как Маруся знала, европейцам и американцам, отправляющимся в Восточную Европу, во всех туристических агентствах настоятельно рекомендовали опасаться и не вступать с ними ни в какие контакты. Судя по поспешности, с какой они покинули комнату, Маруся поняла, что они остались очень даже довольны тем, что Маруся говорила с ними вежливо и не попыталась их ограбить или убить. К счастью, все ее вещи, которые так и стояли нераспакованными в небольшой черной сумке в углу, тоже были нетронуты.
ЕРС, Европейская Радиостанция, располагалась в самом центре Праги, неподалеку от Вацлавской площади в огромном многоэтажном здании из стекла и бетона. Утром следующего дня у входа Марусю уже ждала Алиса, которая и провела ее внутрь мимо многочисленных охранников и вахтеров — по словам Алисы, их штат был увеличен вдвое буквально месяц назад, после того, как здесь открылись отделы, вещающие на Иран и Ирак. В холле первого этажа висело огромное полотно, выполненное в лучших традициях социалистического реализма: такие картины Маруся очень хорошо помнила еще со времен своего самого раннего детства, так как несколько точно таких же по размерам картин висело в клубе железнодорожников города Жмеринки, правда, на тех картинах советские солдаты на танках въезжали в Берлин, а на одной из них, Маруся отчетливо это помнила, солдат сидел с гармошкой. На висевшем же в холле радиостанции полотне тоже были изображены русские солдаты на танке, только на сей раз представленные в окружении многочисленной толпы мирных демонстрантов, одного из солдат демонстранты пытались даже стащить вниз за ноги, а он отбрыкивался, вцепившись двумя руками в дуло танка. Такие же картины, посвященные событиям
Русская служба располагалась сразу на двух этажах, правда, рядом по периметру находились службы всех республик бывшего Союза: Украины, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и даже Белоруссии,- предполагалось, что и на стажировку, куда пригласил Марусю Лучиано, должны были прибыть представители всех этих республик. Самой многочисленной, помимо русской службы, были украинская и таджикская. Самого Лучиано Маруся видела только мельком в коридоре, он едва успел с ней поздороваться и уже на следующий день отбыл в отпуск к себе на родину, на Сицилию. Маруся в новой обстановке чувствовала себя очень неуверенно, и эта неуверенность и внутреннее напряжение с каждым часом ее пребывания в Праге, казалось, возрастали все больше и больше.
В первый же день, когда она спустилась на первый этаж в ресторан пообедать, к ней за столик подсел какой-то жирный мудак, который стал у нее все выспрашивать и выведывать, причем видно было, что он очень нервничает, и ему, вообще, очень неприятно видеть перед собой Марусю, а почему — Маруся понять не могла. Может быть, потому, что он тоже был из Петербурга и работал здесь не так давно. В Петербурге у него осталась жена, биолог, и возможно, он считал, что Лучиано пригласил Марусю из Петербурга на его место, а может быть, он хотел перевезти сюда в Прагу свою жену, у которой, возможно, тоже был очень низкий выразительный голос, не хуже, чем у Маруси… Во всяком случае, он явно пытался у нее выведать и разузнать, что она здесь делает и зачем приехала. О том, что здесь собираются какие-то стажеры он, похоже, слышал впервые в жизни. Фамилия мудака была Опухтин, и имя у него тоже было мудацкое — Бенедикт. Кто это такой, Маруся не знала, потому что так и не успела ни разу до своего приезда в Прагу прослушать ни одной передачи этой радиостанции, она собиралась это сделать каждый день, но все время откладывала до последнего момента и в результате так и приехала абсолютно неподготовленной. «Мудаком» же она решила его про себя называть потому, что ее всегда раздражало, когда к ней так доябывались, особенно малознакомые люди, причем ни с того, ни с сего.
Впрочем, кое-какую информацию Опухтин ей все-таки сообщил, например, что в этом ресторане неплохо и совсем недорого кормят, а в еде, судя по его внешнему виду, он наверняка разбирался. Кроме того, он успел сообщить Марусе, что чехи — в целом, нация, хотя и очень вежливая и честная, но, по его наблюдениям, не очень способная к бизнесу, в отличие от тех же поляков или даже русских, а честность и бизнес, на его взгляд, это было чем-то вроде «гения и злодейства», вещами несовместными. Вместе с тем, он посоветовал Марусе внимательно следить за своей сумкой в метро, так как, если она зазевается, то, несмотря на честность местного населения, запросто может лишиться по меньшей мере кошелька, в пражских же такси даже из конца в конец города она не должна была платить больше трехсот крон, так как бывали случаи, когда у иностранцев местные таксисты и за десять минут езды могли потребовать от двух до пяти тысяч крон, и доллары, которыми ей должны были выплачивать суточные, тоже лучше было менять в банках, а не в обменных пунктах, где брали какие-то дикие проценты, заранее об этом никого не предупреждая.
В одиночку отходить далеко от центра тоже не рекомендовалось, да и в центре ходить было небезопасно, но, если тебя все же припрут к стенке, то он настоятельно советовал ей ни в коем случае не признаваться, что она из России, потому что из-за событий шестьдесят восьмого года местные бандиты очень не любят русских и берут с них дань за пребывание в городе-музее Праге в два раза больше, чем с американцев или немцев. В крайнем случае, если же ее все-таки расколют, и она вынуждена будет признаться, что она русская — но это уже в самом крайнем случае, когда ей приставят нож к горлу и поблизости не окажется никого, кто бы мог ей помочь — она должна будет сказать, что, мол, да, она русская, но здесь живет и работает на этой радиостанции, тогда ей сразу скинут процентов пятьдесят, но об этом он ее просил никому не рассказывать, потому что, если все об этом узнают, то начнут этим слишком злоупотреблять, и тогда все сотрудники радиостанции тоже лишатся последней надежды на спасение…
А в остальном чехи были люди очень честные и вежливые, но просто их немного испортило обилие иностранцев и привычка жить за их счет, а также большая разница в заработных платах у местного населения и граждан западных стран. Но если отъехать от Праги километров так за сто, то где-нибудь в глухой деревушке обязательно можно встретить очень простых, трудолюбивых и добрых людей, но все они обитают не ближе, чем на сто первом километре от Праги…
***
В Прагу Маруся прилетела через Мюнхен, где провела две недели. Небольшой отрывок из ее романа был опубликован в немецком переводе в одном из журналов в Германии, редакция которого, в качестве гонорара за публикацию, пригласила ее в Мюнхен, где она должна была встретиться со славистами из местного университета. Пансионат в пригороде Мюнхена, где она жила, оказался расположен в райском уголке, ей отвели тихую комнату на втором этаже, окно выходило в сад, и по утрам Маруся слышала пение птиц, из сада доносился аромат каких-то цветов, рано утром из-за гор постепенно поднималось солнце, небо вокруг становилось розовым, о существовании всех этих вещей Маруся уже давно забыла, она так давно не была даже за городом, не говоря о такой откровенно деревенской природе, да еще и присутствие гор делало все совершенно нереальным. Маруся даже не воспринимала все это всерьез, она не ощущала окружающее как действительность, ей казалось, что все это понарошку, декорация кукольного театра, и что на самом деле такого не бывает. Кроме того, она уже давно отвыкла от того, что на обывательском языке называется «радостью жизни», постоянная рефлексия мешала ей, она все время думала о делах, о том, чтобы не сказать и не сделать лишнего, но здесь ей, как ни странно, предоставилась возможность расслабиться.
На завтрак она ходила рано, ее спросили, когда ей лучше подавать завтрак, оказывается, там существовало расписание для разных групп, завтрак проходил с семи до десяти утра, и можно было выбрать любое удобное время. Для Маруси, которая в последнее время в Петербурге вообще редко просыпалась раньше полудня, такой режим казался просто издевательством, но потом она, подумав, сказала, что завтракать будет в семь утра, и не ошиблась, потому что в это время в столовой внизу народу было меньше всего.
Она спускалась в зал, садилась за стол, за соседним столом обычно сидели два молчаливых японца, остальные обитатели пансионата еще спали, за стеклянной дверью веранды Маруся видела дерево, на котором росли настоящие лимоны, чуть дальше — дерево, покрытое черешнями, под деревьями были устроены аккуратные клумбы с белыми и розовыми цветами, и по саду бегали четыре толстых гладкошерстных серых кота, которые никогда не подходили к людям, а всегда держались на расстоянии, даже от хозяина, который каждое утро насыпал им в миски сухой корм. Хозяин, что-то вроде распорядителя, завхоза в этом пансионате, каждое утро ставил перед ней тарелку с четырьмя различными видами сыра, яйцо, только что снесенное его курами, свежие булочки, кусочек маслица на блюдечке, кофейник с кофе, маленький молочник со сливками и даже вазочку с джемом. Маруся в самом начале, когда он спрашивал ее, что она хочет на завтрак, сказала, что любит сыр, а на вопрос о колбасе ответила отказом, но потом сожалела об этом, так как за соседним столом японцы получали еще и ломтики прекрасной розовой колбасы с вкраплениями разных зернышек, а также кусочков зеленого и красного перца, но попросить колбасы она стеснялась и утешала себя тем, что ей приносят много сыра разных сортов, а сыр она очень любила. Закончив завтрак, Маруся поднималась обратно к себе в комнату и снова ложилась спать — чтобы не страдать от недосыпа весь день. Ужин проходил в том же зале и тоже в удобное для постояльцев время. Жизнь в этой деревне была спокойная и размеренная, из деревни в город ходил автобус, причем он приходил по расписанию минута в минуту, и постояльцы пользовались привилегией ездить на этом автобусе бесплатно. Кроме того, неподалеку находилось озеро с очень чистой прозрачной водой, в которой Маруся даже видела, как плавают какие-то рыбы, у Маруси даже промелькнула отдаленная ассоциация с байкальским омулем, которого она никогда в жизни не то что не видела, но и не ела.
Стояли жаркие дни, и Маруся ходила на это озеро купаться, правда, все участки вокруг были огорожены и было написано «Частная собственность», но Марусе все же удалось найти одно место, где подход к озеру был не огражден, там был мелкий белый песочек и ракушки, Маруся там купалась и смотрела на противоположный берег, где, по словам местных жителей, находилась уже Швейцария. Через неделю Маруся спустилась в столовую к завтраку и за своим столом увидела бабу с круглыми черными глазами, подстриженной на лбу темной челочкой и утиным носиком, она жрала колбасу с тарелочки и пила кофе, о чем-то переговариваясь с хозяином по-немецки.
Это была писательница Платонова, отрывок из произведения которой был опубликован в том же журнале, что и отрывок из марусиного романа. Она приехала в Мюнхен из Москвы и, кажется, была бывшей женой одного из учредителей этого журнала, правда, Маруся была в этом не уверена, так как случайно слышала об этом от кого-то, но, возможно, это было действительно так, потому что в предыдущем номере был опубликован отрывок из произведения ее дочери. Во всяком случае, сама Платонова ничего Марусе об этом не говорила, зато она почти сразу же сообщила ей, что находится в родстве с писателем Платоновым, является чуть ли не его внучкой. Видимо, она этим очень гордилась, однако Марусе никогда не нравился Платонов, он ее всегда раздражал, в его произведениях, да и во внешнем облике, было что-то олигофреническое, слабоумное и неполноценное, это было заметно даже на фотографиях; ни одного его рассказа, даже самого маленького, она так и не смогла дочитать, ей не нравилось, что он смазывал и превращал в бессмысленную кашу почти все свои мысли и чувства. Кроме того, несмотря на всю ложную многозначительность своего творчества, он, кажется, не понимал элементарных вещей, восхищался стахановцами и прочей хуйней, такое бывает, наподобие того, как дальтоники не способны различать отдельные цвета. Платонов, видимо, тоже страдал чем-то вроде интеллектуального дальтонизма в тяжелой форме, во всяком случае, Маруся не хотела бы с ним встретиться лично, такая перспектива ее мало прельщала. А когда она брала в руки какую-нибудь книгу, она всегда мысленно представляла себе, хотела бы или нет она встретиться с ее автором; и она в детстве часто представляла себе, что беседует с Достоевским, Блоком, Уайльдом, ей было бы интересно поговорить с Селином, посмотреть на Жене, но с Платоновым ей почему-то встретиться никогда не хотелось, даже думать об этом ей было неприятно… А может быть, это настроение ей отчасти передалось от Кости, который всегда говорил с особой ненавистью и злобой про Платонова, Хлебникова и Филонова — все трое почему-то казались ему похожими друг на друга, как близнецы, их произведения Костя, будь его воля, сжег бы в первую очередь… Поэтому и внучка Платонова сразу же, сама того не подозревая, одним упоминанием этого имени невольно пробудила в душе Марусе скрытую враждебность и антипатию, ей почему-то сразу стало неприятно находиться рядом с ней и захотелось уйти к себе в комнату, чтобы ее не видеть.
Платонова подошла к окну, выходившему в сад, и, указав на что-то, сказала Марусе:
— Какая прелесть! Жаль, что нет фотоаппарата! Как бы хотелось сфотографировать этих милых существ!
Маруся тоже подошла к окну и посмотрела — на кустике рядом с домом оказалось небольшое гнездо, из которого высовывалось сразу четыре дрожащих желтых клюва.
-У меня есть фотоаппарат, давайте я их сфотографирую, — предложила Маруся.
-Нет, не надо, ведь у вас вспышка, а эти крохотные существа могут просто умереть от разрыва сердца от вашей вспышки, ведь и сердечки-то у них такие крохотные, еще меньше, чем они сами! — после этого Платонова доверительно сообщила Марусе:
-Сейчас я вымою голову, распушусь и пойду!
Опубликованное в немецком журнале произведение Платоновой целиком состояло из каких-то сбившихся в кучки букв, слов и знаков препинания. Платонова призналась Марусе, что раньше она занималась исключительно живописью, а впервые взялась за перо только два года назад. Она возвращалась с дачи, и ей попались такие замечательные соседи в электричке, муж и жена, пенсионеры. У них были такие прекрасные глаза, они очень любили природу, и так интересно, с таким чувством об этом говорили, что, вернувшись домой, она села за компьютер и все записала. Так и родилась эта повесть, которую теперь перевели на немецкий. Правда примерно год назад, когда ее уже собирались переводить, и даже были обговорены все детали, она вдруг однажды обнаружила, что вирус съел все текстовые файлы в ее компьютере, в том числе и ее повесть, которая превратилась в бессмысленное нагромождение букв и слов. Сначала она ужасно расстроилась, а потом подумала и решила, что так будет даже лучше.
На следующее утро, последнее перед отъездом, Маруся опять застала Платонову стоящей перед окном.
-Вот, — сказала она, обращаясь к Марусе, — произошла маленькая трагедия. Гнездышка больше нет, птенцов тоже. Очевидно, это дело рук или, точнее, лап котов, которые гуляют здесь и чувствуют себя полными хозяевами жизни.
Маруся подошла и посмотрела — действительно, никаких следов гнезда не было, только небольшие клочки пуха и перышки лежали на земле возле куста. Хозяин, которому с некоторым укором также указала на этот факт Платонова, долго ходил по саду вокруг, охая и цокая языком, но больше никаких следов гибели птенцов обнаружить не удалось — ни пятен крови, ни клювов, ни лап, ничего, только коты, может быть, в тот день казались особенно довольными и ели очень мало сухого корма.
***
Игорь Бейлис, начальник Русской Службы, тоже был родом из Ленинграда, но он, в отличие от того жирного мудака в ресторане, напротив, встретил Марусю очень приветливо и радушно.
Потому что он вообще очень любил русских людей, которые, на его взгляд, были очень умными и талантливыми, у них были такие замечательные певцы, как, например, Вертинский, альбом которого он только что купил у себя дома в Нью-Йорке, где сейчас жили его дочь и жена. Этот альбом включал в себя только настоящего, самого раннего Вертинского, и там он совершенно был не похож на то, что мы обычно привыкли слышать, особенно разительно все это отличалось от того, что записывал Вертинский после пятьдесят третьего года, вернувшись в СССР. Пластинки с этими записями он тоже слушал в детстве у себя дома в Ленинграде, но то, что он сейчас купил в Нью-Йорке, было совершенно не похоже, просто никакого сравнения, и если Маруся этого никогда не слышала, то она очень-очень много потеряла… Кроме того, Бейлису очень нравились Петр Лещенко, Галич и Высоцкий, ну, Аркадия Северного, о котором Маруся его спросила, он тоже, конечно, слышал, но только несколько позже, и это не относилось к его самым ранним детским воспоминаниям, когда они с папой и мамой жили на улице Рубинштейна в коммунальной квартире.
А музыку он вообще полюбил с самого раннего детства и слушал ее постоянно, где-то годам к пятнадцати он впервые услышал записи Элвиса, ему о нем сказал его приятель Ося Шнейдерман, который как-то встретил его на Невском и спросил, а знает ли он Элвиса, и Бейлис, конечно же, сказал, что да, знает, хотя совершенно не знал, кто это такой, но если бы он сказал, что он не знает Элвиса, тогда бы Ося догадался, что он не вхож в высшие круги и вообще не имеет никакого отношения к тем молодым людям, которые гордо ходили по Невскому, одетые как плейбои. Ося бы догадался, что он, Игорь Бейлис, просто живет в коммунальной квартире с папой и мамой, хотя и неподалеку от Невского, на улице Рубинштейна, и пока слышал в своей жизни только Вертинского и Лещенко, которые постоянно у них прокручивались дома на отечественных, самодельных и трофейных пластинках, но к тем молодым людям, которые ходят по Невскому, он не имеет совершенно никакого отношения, а этого Бейлису очень не хотелось, поэтому он и сказал, что он знает Элвиса, слышал много раз и с удовольствием бы послушал еще, если у Оси есть записи, так как свою он недавно отдал Ваське Шустикову из соседнего двора, и тот ему ее так и не вернул. Но однако Ося был совсем не так прост, как это могло показаться на первый взгляд, потому что вслед за этим вопросом, он задал ему еще один: «А слушал ли он также и Пресли?» — и в это мгновение, а Бейлис считал, что это было самое важное и значительное мгновение в его жизни, которое во многом предопределило дальнейший ее ход, какие, возможно, бывают в жизни каждого человека, так как он находился тогда перед жуткой дилеммой: быть или не быть, или, как Германн с тройкой, семеркой и тузом — так вот, в это мгновение в том, как Ося задал ему свой вопрос, Бейлис почему-то, по до сих пор ему до конца не понятной причине, вдруг почувствовал какой-то подвох, может быть, по тому, как, с каким нарочитым акцентом Ося произнес слово «также», отчего ему вдруг и пришла тогда в голову совершенно безумная и невероятная мысль, что Элвис и Пресли — это одно лицо, просто Элвис — это имя, а Пресли — фамилия. Он до сих пор не мог понять, каким образом ему в голову пришло это озарение, но он понял, что это его шанс, один шанс из тысячи, и решил пойти ва-банк, то есть ответил, что, конечно, Элвиса Пресли он уже слышал много-много раз, как он и сказал уже об этом Осе чуть раньше.
Таким образом, Игорю Бейлису удалось незаметно втереться в среду тех молодых людей, которые курсировали по Невскому, одетые как плейбои, и те вскоре приняли его за своего, так как он очень быстро освоился и за короткий промежуток времени сумел прослушать и Элвиса, и еще много-много кого… Но, собственно, эта любовь к музыке, в конечном итоге, и вышла Игорю Бейлису боком, потому что для прослушивания всех этих запрещаемых и преследуемых официальными властями исполнителей он и еще два его друга как-то летом ночью через открытое окно забрались в чью-то квартиру, откуда вынесли магнитофон, потому что своих денег на покупку такого магнитофона у них не было, за что в результате Игорь Бейлис и отправился в Мордовию сроком на два года.
А так как на суде он заявил, что магнитофон ему был нужен исключительно для того, чтобы прослушивать Элвиса и прочие запрещенные записи, то на зону его отправили к политическим, правда, это деление в те времена было весьма и весьма условным, потому что политических заключенных, как известно, тогда в Советском Союзе не было. И ему действительно на зоне во время своего заключения приходилось видеть людей очень не похожих друг на друга, отбывающих срок по самым разным статьям, от убийц до мелких жуликов и авантюристов, но все это были тоже удивительно талантливые русские люди. Например, один, Ванька Сухов, который выколол глаза своей жене, отрезал ей уши, засунул их ей в рот, а потом отрезал ей еще и голову, с которой и отправился поиграть во двор в футбол с местными мальчишками, чем испугал их до смерти, и они все сразу разбежались по домам. Все это он проделал с ней исключительно из ревности, но, на самом деле, Ванька был очень добрый и отзывчивый человек, и на зоне он всегда Игорю Бейлису помогал и поддерживал его, что было очень важно, так как Ванька был бригадиром в той бригаде по пошиву домашних тапочек, в которой работал Игорь Бейлис. В этой же бригаде по пошиву тапочек, помимо него, было еще пять человек: сектант-старовер из Новгорода, украинский националист из Львова, один фарцовщик, тоже из Ленинграда, один карманник и один аферист, Гоша из Петропавловска, — последний вообще был человек совершенно уникальных способностей, но чтобы описать все, что тот вытворял в своей жизни, и за что он сидел, надо было, пожалуй, написать целый роман, а то и два, в общем, Коппола и Пьюзо с их «Крестным отцом» отдыхают, поэтому в беседе с Марусей Бейлис даже не хотел затрагивать эту тему, потому что времени у них и так было не очень много…
Но в целом, он был очень рад видеть ее, приехавшую к ним сюда с берегов Невы, из города его детства, в котором он уже давно не был, но которого ему всегда так не хватало и в Нью-Йорке, и в Праге, он даже болел по-прежнему за «Зенит». А когда он уехал в семьдесят восьмом году в Америку через Израиль, то первое время в Нью-Йорке он так скучал по Ленинграду, что ему все время снился один и тот же сон. Будто он идет по улице Рубинштейна, а навстречу ему из их двора вдруг выходит Ося Шнейдерман и спрашивает его: «Ты что, вернулся?» — на что Бейлис ему отвечал, что да, но его обещали отпустить обратно. «И ты поверил?» — говорил ему Ося. И в это мгновение Бейлис всякий раз просыпался в холодном поту, в ужасе начинал себя ощупывать и успокаивался только тогда, когда подбегал к окошку, распахивал занавески и видел перед собой огромные светящиеся тысячами огней нью-йоркские небоскребы. Этот сон преследовал его в Америке еще много-много лет спустя после того, как он уехал туда из Ленинграда — так сильно он тосковал по своему родному городу…
После этой первой встречи с начальником Русской Службы, отношение к Марусе окружающих действительно резко изменилось, и она даже сама почувствовала сильное облегчение, как будто с ее души свалилась какая-то тяжесть: все вокруг, кто до этого момента с ней едва здоровались и почти не смотрели в ее сторону, вдруг радостно ей закивали и заулыбались.
Владимир Густафссон, которому Бейлис поручил курировать пребывание Маруси в их отделе, по секрету сказал ей, что Бейлис в тот же день на «летучке» сообщил своим подчиненным, что встреча с Марусей произвела на него огромное впечатление, и именно после этой встречи он наконец-то понял, что Россия не погибнет, спасется и возродится из пепла, если там еще живут такие вот, как Маруся, настоящие русские женщины. Правда, сразу же после этой «летучки» у жирного мудака, который доставал Марусю в ресторане, вдруг случился сердечный приступ, и его увезли в больницу на «скорой» прямо с работы, хотя потом выяснилось, что первоначальный диагноз оказался неправильным, и у него просто случился приступ желчекаменной болезни, оттого, что он слишком много жрал и постоянно пил пиво.
***
Помещение Русской службы состояло из множества больших просторных залов, в самых больших сотрудники отделялись друг от друга деревянными перегородками, отчего эти залы становились похожими на небольшие лабиринты.
Блуждая по одному из таких лабиринтов, Маруся натолкнулась на Розова, о котором она, вроде как, уже где-то слышала раньше и, может быть, даже встречала его стихи в одном из журналов, который ей показывал в Париже Жора, но помимо того, что Розов писал стихи, он еще переводил с английского, французского и немецкого языков. В момент, когда Маруся на него натолкнулась, он как раз составлял большое письмо в один московский журнал, где только что отклонили его перевод, над которым он чуть ли не полгода трудился: как переводчице, по его мнению, Марусе это должно было быть особенно понятно.
Оказалось, что оригинал, с которого он переводил, был написан на очень неряшливом и корявом немецком языке, и Розов трудился над этим маленьким рассказом чуть ли не шесть месяцев, стараясь до мелочей воспроизвести все его корявости и небрежности. В результате у него получился совершенно небрежный и корявый перевод, полностью соответствующий всем стилистическим особенностям оригинала, объяснял же он их тем, что автор, немец, был по большей части известен, как философ, а к художественному творчеству обращался крайне редко, что и сказалось на особенностях его стиля. Получив этот корявый и небрежный текст, редакция, хотя там было много его хороших знакомых, знавших его с лучшей стороны, отклонила его работу и заказала ее какому-то юнцу, который буквально за неделю состряпал достаточно гладкий и ничем особо не примечательный перевод. Вот как раз его в этом журнале и опубликовали — факт, который Розов теперь и собирался опротестовывать.
Узнав название московской газеты, с которой сотрудничала Маруся, он очень обрадовался и воскликнул, что хорошо знает Леню Торопыгина и просил передавать ему большой привет. Марусю это немного удивило, потому что Торопыгин только что опубликовал в этой московской газете статью, в которой всячески поливал грязью сотрудников ЕРС, обвиняя их, главным образом, в том, что они используют свое служебное положение для собственной раскрутки, то есть для пропаганды своего творчества, а к себе на радиостанцию они тоже приглашали исключительно кретинов или законченных блядей, правда, по мнению Торопыгина, в России таковыми теперь являлись практически все, так что выбор у радиостанции был большой… Статью об ЕРС в «Универсуме» сначала хотели поручить Марусе в связи с ее предстоящим отъездом в Прагу, но Торопыгин сам вызвался об этом написать, так как он, по его словам, эту радиостанцию всегда очень любил и слушал ее с самого детства практически каждый день. Возможно, Розов, сидя у себя за перегородкой, всего этого просто не знал, хотя, как могла заметить Маруся, и Владимир, и еще разные личности достаточно бурно эту статью обсуждали.
В соседнем же с Розовым помещении, за перегородкой, Маруся натолкнулась на Околенцева, которого Торопыгин в этой же статье называл «ловкачом и прохвостом, бездарным, как его задница». Околенцев тоже был поэтом, и Маруся слышала о нем от Серафима, потому что оба они были родом из Самары. У Серафима было свое издательство, и Маруся как раз тогда уже вела предварительные переговоры с ним о возможном издании у него своего перевода Селина, она также слышала, что Серафим в свое время взял у Околенцева на издание маленькой книжечки его стихов две тысячи долларов, но так ее и не издал, тем не менее, как поняла Маруся из разговора с ним, Околенцев по-прежнему сохранил к своему земляку самые теплые чувства, и если бы не его жена-француженка, которая после того случая категорически запретила ему общаться с Серафимом, он, кажется, был готов дать ему еще две тысячи на следующую книгу.
Околенцев говорил очень громко, каждое марусино слово он переспрашивал дважды, потому что от долгой работы на радио, где ему постоянно приходилось иметь дело с наушниками, у него в последнее время сильно испортился слух. Околенцев очень хвалил стихи Серафима, а когда Маруся, как ему показалось, слегка поморщилась, он замахал на нее обеими руками, сказав, что она совершенно не права, и если Серафим тоже взял у нее крупную сумму в долг и не отдал, это еще не значит, что он плохой поэт, и не надо все смешивать в одну кучу, потому что в его стихах ему слышался очень милый самарский говорок, который никак невозможно было подделать…
Маруся не стала с ним спорить и начала рассказывать ему о своих впечатлениях от Праги. У нее было довольно хорошее настроение, а также ей нужно было скоротать время, поэтому она говорила без умолку еще чуть ли не полчаса. Околенцев все это время сидел и как-то очень задумчиво на нее смотрел, но совсем уже не прерывал ее, как это было в начале, когда Маруся говорила с ним на разные, может быть, более близкие ему темы, но тогда больше говорил он, а она молчала, и только вставляла свои отдельные реплики, а теперь все время говорила она. В конце концов, когда Маруся высказала все, что хотела, ей стало почему-то казаться, что он ее как-то не очень внимательно слушает, потому что, хотя он на нее и смотрел, но ни разу ни мимикой, ни жестом никак на ее слова не реагировал, у нее было такое впечатление, что он просто впал в ступор, и Маруся его своими разговорами загипнотизировала, поэтому она повысила голос и уже гораздо громче обратилась к нему:
-Григорий Владимирович! — Околенцев вздрогнул и наконец-то впервые за последние полчаса отреагировал:
-Извините, Маруся, но я же вам сказал, что я очень плохо слышу.
Вечером того же дня Бейлис, а также еще несколько сотрудников Русской службы, включая Владимира, пошли со своей гостьей — а именно такой статус теперь обрела Маруся здесь на радио — в пивной ресторан, чтобы угостить ее настоящим чешским пивом. В ресторане всем сразу же раздали огромные литровые кружки с пивом, а также тарелки с печеным свиным коленом, которое было невероятных размеров, правда, мяса на нем оказалось совсем немного — это тоже было традиционное местное блюдо, которым всегда потчевали гостей.
Бейлис сидел во главе прямоугольного стола и опять — на сей раз уже по настоятельным просьбам сотрудников — рассказывал историю своего попадания на зону, в самую гущу талантливых русских самородков, которые устраивали из хлебных мякишей совсем без клея и каких-либо дополнительных материалов целые расписные храмы, не хуже, чем в Кижах, и выкалывали себе на груди лики лениных, сталиных, ангелов, Божьих матерей, черепа, гитлеров, муссолини, моше даянов, свастики, кинжалы, танки, термоядерные ракеты, голых баб, чертей, змей, львов, средневековых рыцырей, пиковых дам, иисусов христов и троицы не хуже, чем у Рублева… Правда, на сей раз его рассказ пополнился некоторыми новыми деталями, например, как во время свиданки его невеста и будущая жена, которая была из донских казачек и которая жила теперь в Нью-Йорке вместе с дочерью, как-то привезла ему целых три яйца, наполненных спиртом, куда он был закачан шприцем через проделанное отверстие, а также черной икры и красной рыбы…
А на обратном его пути в Ленинград из Мордовии, откуда он был выпущен за примерное поведение на полгода раньше срока, когда он ехал в поезде, одетый как плейбой, так как он к тому времени уже успел купить себе в Саранске новое пальто, так вот, на обратном пути ночью в поезде, пока он спал, кто-то из талантливых русских людей все-таки умудрился это пальто у него спереть — как это было проделано, ему было совершенно непонятно, потому что дверь в купе была закрыта на ключ, и никто ее ночью, вроде бы, не открывал, правда, он очень крепко спал, но в целом это его не очень удивило, так как он реально оценивал способности русских людей. А на улице тогда было уже довольно холодно, так как был январь и стоял сильный мороз, тем не менее, до дому в Ленинграде ему пришлось добираться в одном костюмчике и на общественном транспорте, потому что кошелек со всеми деньгами, какие у него на тот момент были и какие он заработал за полтора года в бригаде по пошиву тапочек, остался у него в пальто…
***
Рассказы Бейлиса, а также портреты окружавших его на зоне зэков невольно вызвали у Маруси в памяти воспоминание о художнике Кальненко, которого она посетила после Самуила Гердта, когда готовила большую публикацию про Роальда Штама для «Универсума».
В мастерской Кальненко, который тоже провел несколько лет в лагерях, только не в Мордовии, а в Забайкалье, повсюду на стенах было развешано огромное количество портретов всевозможных воров в законе, убийц и грабителей, которых он тоже характеризовал Марусе самым лестным образом — в том смысле, что все они были очень талантливые и изобретательные, а также находчивые и гораздые на всевозможные выдумки и приколы. Например, по ночам, чаще всего под утро, когда он еще крепко спал, ему неоднократно вставляли между пальцев ноги свернутую в трубочку бумажку и поджигали, отчего он начинал дергать ногами и просыпался — это называлось «делать велосипед». Правда Маруся про «велосипед» знала и сама, так как в пионерских лагерях, и даже в Артеке, где Марусе довелось несколько раз побывать в детстве, его тоже постоянно «делали» друг другу мальчики. Когда Кальненко узнал, что Маруся в курсе даже таких вещей, как этот «велосипед», он долго и весело смеялся, после этого он сразу же ее очень полюбил и проникся к ней глубоким доверием, о чем ей сам тут же и сказал.
Кальненко, который вместе со Штамом входил в группу «маресьевцев», и Штама ей представил тоже с самой лучшей стороны. По его словам, Штам начал с перветина, и потом постепенно перешел на морфий, и уже к двадцати пяти годам стал законченным морфинистом, как и практически все члены этой художественной группы. Хотя особенность морфия была такова, что для достижения нужного эффекта все время было необходимо увеличивать дозу — в остальном же, по его мнению, это была замечательная вещь, самая лучшая, какая только существует в мире и о какой только может мечтать человек. Правда, Штам и большинство его товарищей от злоупотребления морфием очень скоро поумирали, а Кальненко спасло то, что его отправили на зону примерно за год до его предполагаемой кончины, что, в результате, и позволило ему дожить до наших дней и рассказать обо всем этом Марусе.
Вообще, в нынешнем поколении художников, Кальненко не видел равных таким гигантам русского Возрождения, как Маресьев и его друзья, хотя бы потому, например, что никому уже из ныне живущих, наверняка, как он считал, не придет в голову ходить на Смоленское кладбище по ночам и, взобравшись на дерево, часами просиживать там в томительном ожидании, пока какой-нибудь хулиган не затащит на кладбище какую-нибудь зазевавшуюся дуру и не изнасилует ее. Это, по мнению Кальненко, было любимым занятием Маресьева, которому он предавался зимой и летом, вне зависимости от погодных условий и времени года, потому что такого рода переживания давали ему сильный импульс для творчества, а ради искусства он был готов на все.
Штам, помимо всего прочего, очень любил кончать с собой, иногда понарошку, чтобы инсценировать собственную смерть и подразнить товарищей и родственников, а иногда и всерьез, в общей сложности, он кончал с собой не менее восьми раз, хотя и умер своей естественной смертью от астмы. Чуть позже, когда Маруся обмолвилась в телефонном разговоре о том, что она делает публикацию про Роальда Штама, Болту, художнику, с которым она случайно познакомилась в Манеже. Тот тоже сразу же вызвался рассказать про него много чего интересного, так как он его, оказалось, тоже очень близко знал, и очень настаивал, чтобы она записала все, что он ей сообщит. Самым интересным, что знал о Штаме Болт было то, что однажды, когда он проходил как-то мимо пятиэтажного дома на Лиговском проспекте, он вдруг заметил, что на крыше дома стоит какой-то человек, размахивает руками и громко кричит, внизу же собралась уже довольно большая толпа зевак, человек явно намеревался прыгнуть вниз — это, по словам Болта, и был Роальд Штам. Тогда с ним Болт очень близко и познакомился, потому что Штам вздрагивал в предсмертных конвульсиях, лежа в огромной луже крови, буквально у самых его ног. Самуил Гердт, напротив, считал Роальда Штама очень утонченным и хрупким юношей с очень одухотворенным лицом, правда, с очень слабым здоровьем. Из-за этого здоровья, то есть из-за астмы, Штам, по мнению Гердта, собственно и пристрастился к эфердину, но больше никаких наркотиков он никогда не принимал, а в основном занимался сочинением стихов.
Кальненко, помимо картин, как оказалось, еще и переводил с французского, поэтому, как только он услышал, что Маруся тоже знает французский и тоже что-то переводит, он сразу же подскочил к книжному шкафу, вытащил оттуда маленький томик Рембо и начал бурно комментировать один возмутивший его до глубины души перевод, где какой-то пиздючок шел, а лицо ему кололи колосья спелой ржи, то есть из этих строк, по его мнению, получалось, что Рембо был каким-то недомерком, ибо только в этом случае колосья ржи могли колоть ему лицо. Ему также очень не нравилась фраза о том, что Рембо мог быть счастлив с природой «как с женщиной земною», потому что это, на его взгляд, было самым что ни на есть изощренным издевательством как над природой, так и над Рембо, который, как известно, трахался не с женщинами, а с Верленом…
Но главным образом, Марусе запомнился этот визит к Кальненко не этим, а тем, что после всех этих литературоведческих экскурсов, он дружески предложил ей с ним за компанию выпить — он, вообще-то, это очень редко кому предлагал и предпочитал пить в одиночестве, но раз уж Маруся разбиралась не только в «велосипедах», но и во французском, то с ней он готов был выпить с удовольствием. Маруся, чтобы уважить старичка, не отказалась, тогда он тут же сказал, что сейчас сбегает в магазин, и пусть она его немножко подождет.
Вернувшись из магазина, он сразу же отправился на кухню и зачем-то перелил купленное им спиртное в маленький графинчик, из которого тут же налил себе и Марусе, очень порекомендовав ей этот напиток как нечто самое лучшее, что только может быть в этом мире, за исключением, конечно, морфия, так как водку он вообще не употребляет, а это был чистый зверобой. После того, как Маруся выпила всего одну рюмку, она почувствовала себя не очень хорошо, в глазах у нее сразу как-то потемнело, да и вкус у этого «зверобоя» был несколько странный, поэтому она встала и под предлогом того, что ей нужно в туалет, незаметно зашла на кухню, чтобы на всякий случай посмотреть, что же все-таки она выпила — на кухонном столе она обнаружила пустую бутылку из-под лосьона для жирной кожи лица под названием «Зверобой». Когда она вернулась, Кальненко предложил ей выпить еще, но Маруся вежливо отказалась и вообще сказала, что ей уже пора уходить, хотя он очень упрашивал ее остаться и продолжить дружескую беседу о поэзии и живописи за графинчиком.
Уже в дверях, провожая Марусю, Кальненко поинтересовался у нее, хорошо ли она все видит, так как сам он в последнее время видел все хуже и хуже, почти ничего, поэтому уже почти не мог рисовать, а то, пожалуй, он нарисовал бы и ее портрет и подарил его ей на память об их встрече.
***
Владимир, который курировал Марусю во время ее пребывания в Праге, тоже пригласил ее к себе домой на чашку чая. Он жил неподалеку от радиостанции, в самом центре, в довольно тесной двухкомнатной квартире со своей новой женой Анжелой, с которой он познакомился буквально за шесть месяцев до марусиного приезда в Прагу.
Анжела приехала на гастроли в Прагу из Петропавловска вместе с хором, в котором она пела. Недавно она перевезла к Владимиру еще и своих двух дочерей, двенадцати и шести лет, которым была отведена одна из комнат их квартиры, та, что поменьше. Прямо за столом на кухне, на полу, лежал матрас, на котором спала приехавшая ненадолго к ним в гости из Петропавловска теща Амалия Павловна.
До отъезда на Запад фамилия Владимира писалась как Густафсон, но теперь он писал ее исключительно с двумя «с»: «Густафссон«,- так как это больше соответствовало шведским канонам, откуда, как и у Бьорка, происходил его прадед. Его прежняя жена тоже работала на этой радиостанции, но что между ними произошло, почему они расстались, Маруся не знала, да и не старалась особенно вникать.
Владимир уехал из Москвы в Париж где-то в конце семидесятых, его отъезд сопровождался довольно крупным скандалом, потому что буквально за шесть месяца до своего отъезда он каким-то образом умудрился вступить в Союз писателей. По его словам, это произошло совершенно случайно, так как ему тогда не было еще и тридцати, и просто по разнарядке кому-то понадобилось, чтобы этот скромный тихий юноша в очках и с бородкой, регулярно посещавший литературное объединение при Литинституте, занял такую нишу, то есть стал бы в своем творчестве отображать проблемы более или менее неангажированной части молодой интеллигенции тех лет. Предполагалось, что он не будет писать слишком откровенно идеологизированных произведений, а будет освещать жизнь инженеров, врачей, юристов и учителей, иногда задумывающихся над смыслом жизни и сталкивающихся порой с прямолинейностью и нетактичностью некоторых черезчур открытых, простодушных и искренних секретарей парткомов тех НИИ, в которых они работают. Во всяком случае, именно так его проинструктировали на многоуровневых собеседованиях перед вступлением в Союз, включая органы, где он всем очень понравился своим тактом, скромностью и непритязательностью. Его повести, кроме того, не должны были превышать ста-ста двадцати страниц, так как предполагалось, что их будут публиковать примерно в двух номерах какого-нибудь московского толстого журнала — верность этому компактному жанру Владимир сохранил на всю жизнь.
Сразу же после этого, еще до отъезда, у Владимира даже вышел в Москве небольшой сборник рассказов. Однако почти одновременно с празднованием выхода первого сборника рассказов — а это, по тем временам, было довольно значительным событием в жизни любого гражданина СССР — этот скромный юноша в очках совершенно неожиданно для окружающих и всех тех, кто ему так доверял, каким-то невероятным образом умудрился жениться на итальянке. Сам факт тоже достаточно примечательный для любого гражданина СССР тех лет, а тем более, члена Союза, чье назначение там теми, кто его туда принимал, понималось совсем иначе; более того, как это неожиданно выяснилось чуть позже, итальянка оказалась внучатой племянницей Муссолини — этот факт при въезде в СССР она почему-то скрыла, правда, ее об этом никто и не спрашивал.
Зато сам Владимир в дружеских беседах по большому секрету сообщил об этом нескольким своим знакомым, один из которых, как потом выяснилось, оказался убежденным антифашистом — в результате, Владимир уже через месяц был вынужден скрыться бегством в Париже, так как волна возмущения его поведением на родине начала принимать такие угрожающие масштабы, что, в конце концов, его могли там просто линчевать, как это произошло со многими французскими коллаборационистами в Париже, когда туда после продолжительной оккупации вошли союзные войска.
По этой причине, видимо, в виду некоего созвучия судеб, Владимир во Франции очень увлекся творчеством Селина, который, как известно, тоже едва унес ноги из «освобожденного» Парижа. Несколько небольших эссе Селина они вместе с женой даже перевели на русский. В комнате Владимира большая фотография Селина тоже висела на самом видном месте — рядом с фотографией его шведского дедушки.
Все это, конечно, выяснилось не сразу, не при их первой встрече, потому что Владимир говорил очень мало и короткими обрывочными фразами, в основном: «да», «нет«,- и, чтобы восстановить эту картину в полной мере, Марусе потребовалось встречаться с ним много-много раз на протяжении всего своего пребывания в Праге.
В тот первый раз, когда она зашла к нему в гости, он спросил ее, а почему она подписывает свои романы фамилией своей матери и отказалась от своей первоначальной манеры, когда она подписывала переводы фамилией, заканчивающейся на «ич», он даже несколько раз предложил Марусе вернуться к первоначальному варианту. Может быть, это была фамилия ее отца? Ведь, кажется, ее отец был с Украины? Ему казалось, что в этой фамилии на «ич» есть что-то западно-украинское, или даже польское, шляхетское, а может быть, и еще что… По его мнению, вообще, та фамилия, на «ич», звучала гораздо лучше и привлекательней для слуха, чем эта простая русская, которой она теперь подписывалась. Во время всех этих вопросов, которые, отчасти, даже напомнили Марусе что-то вроде допроса, Владимир очень внимательно наблюдал за Марусей и за каждой ее реакцией на его слова.
И только потом, наконец, когда его любопытство, вроде бы, было полностью удовлетворено, и Маруся ему сказала, что нет, эта простая русская фамилия ей нравится гораздо больше, и раз уж она так начала подписываться, то и будет продолжать дальше, Владимир, кажется, немного успокоился и даже подвел ее к своему книжному шкафу, на нижней полке которого, слегка заставленной всевозможными открытками и фотографиями, Маруся с удивлением обнаружила огромную коллекцию книг из жизни практически всех лидеров Третьего Рейха. Некоторые из этих книг, правда — как, например, дневники Геббельса, застольные беседы Гитлера, воспоминания Шпеера и еще несколько- уже были изданы и у нас, по-русски, но у Владимира все эти книги были на английском и французском языках, и в свое время представляли большую редкость, за одну такую книгу в Советском Союзе можно было сразу очутиться, причем на продолжительное время, среди самых талантливых и интересных русских людей с живописными лицами, по сравнению с которыми унылые лица секретарей Союза писателей, каким бы тайным коварством ни были наделены их обладатели, могли показаться просто какой-то очень слабой тенью, седьмой водой на киселе, истинного лица настоящего русского человека.
Помимо, в общем-то, маленькой полочки, посвященной вождям Рейха, у Владимира еще была огромная коллекция книг, которые он методично покупал в букинистических лавках городов всего мира — коллекция, посвященная серийным убийцам и маньякам. Собирать эту коллекцию он не прекратил и в Праге, где тоже не реже раза в неделю ходил в магазин иностранной книги и справлялся у продавца, нет ли чего новенького. Там его все уже очень хорошо знали и часто откладывали необходимые ему книги, но Владимир все равно всякий раз тщательно обследовал все стеллажи магазина, потому что продавцы, по неопытности, могли что-нибудь и пропустить.
Некоторые из этих книг, в знак своего особого расположения, как переводчице Селина, Владимир даже подарил Марусе на прощание, все они были испещрены многочисленными пометками и записями на полях: «Правильно!», «Вот это да!», «О кей!», «Так его!», «Это тоже ничего!», «Угу!», «Ха-ха!», «Ну и ну!», «Отлично!», «А вот это по-нашему!», «Ай да сукин сын!», «Надо же!», «Даже я бы до такого не додумался!» и т.д. Несмотря на то, что все надписи были сделаны по-русски, Владимир уверял, что купил все эти английские и французские книги в таком виде уже у букиниста, и он здесь не причем. Тем не менее, Маруся заметила, что многие записи в книгах, которые он ей подарил на прощание, были кем-то тщательно предварительно стерты резинкой, на что указывали размазанные на полях следы карандаша, и остались только те, что были сделаны чернилами.
Владимира и Лучиано связывали тесные отношения, о чем Марусе неоднократно говорила жена Владимира. По ее словам, Лучиано очень часто приходил в гости к ним, иногда один, а иногда вместе с Саидом, который сидел в одной комнате с Владимиром на работе и заведовал всей технической частью Русской службы. Именно они тогда втроем и ездили с Лучиано на празднование юбилея Казановы в Дукс, где их постигло некоторое разочарование. Саид постоянно приводил к себе на работу молодых девок, на которых он, собственно, и тратил почти все свои деньги, на остальные он покупал себе кокаин. Девок он предпочитал приводить со стороны, особенно после того, как одна из сотрудниц ЕРС подала на него в суд за то, что он схватил ее в лифте за задницу. Теперь, когда Бейлис собрался уходить на пенсию, а Лучиано, как его заместитель, был самым вероятным кандидатом на его место, Владимир чувствовал какой-то особый духовный подъем и пребывал в необычно прекрасном настроении — об этом тоже сообщила Марусе Анжела.
Маруся поделилась с матерью Анжелы Амалией Павловной своей давней мечтой — завести себе трех котов, черного, белого и рыжего, чтобы они все втроем сидели рядом и смотрели на нее немигающими круглыми глазами, это было бы очень красиво. А Амалия Павловна сказала многозначительно:
-Может быть, вам лучше одного кота себе завести?
— Да у меня уже есть один кот, черный, — сказала Маруся, — но мне бы хотелось еще двух, для симметрии.
— Да нет, может, вам лучше настоящего кота завести? — опять повторила Амалия Павловна.
У Амалии Павловны, вообще-то, было две дочери — младшая, которую звали Элеонора, жила на Камчатке, у нее недавно тоже родилась дочка, но с каким-то врожденным дефектом головы, ее с трудом откачали после родов, и сейчас она сильно отставала в развитии от своих сверстников, но все равно Амалия Павловна любила ее больше других своих внучек, потому что она была такая слабенькая и болезненная.
А у Анжелы тоже было две дочери — старшая, Иветта, и младшая, Жаклин, бойкая девочка шести лет. Амалия Павловна рассказала Марусе, что они там, на Камчатке, все являются заложниками системы, потому что это остров, оттуда никак не выехать из-за ужасной дороговизны билетов, а выехать оттуда можно только самолетом, ведь это же остров, поэтому и все продукты стоят там в четыре раза дороже, чем на материке, зато рыбы там много, они и живы еще там лишь благодаря этой рыбе, и икра тоже дешевле, чем в других местах. Правда, у них есть свое подсобное хозяйство, картошка растет, даже красная и черная смородина, они варят варенье, и из яблок тоже варят повидло, и благодаря этому как-то существуют, да еще ее муж, анжелин отец, раньше плавал на судне, ходившем из Петропавловска во Владивосток, то есть, что называется, в портофлоте, на нормальные суда, в нормальные хорошие рейсы его не брали, а так бы они хорошие бабки зарабатывали, но нет, всю жизнь в нищете, так и перебивались кое-как, с хлеба на квас.
Сначала Владимир просто хотел подыскать Анжеле мужа, чтобы помочь ей перебраться на Запад, но так как-то все получилось, что на Анжеле он женился сам, и вот теперь у него новая жена, да еще и с двумя девочками. А сама Амалия Павловна вообще приехала в Прагу в первый раз, у нее не было возможности часто предпринимать такие дальние путешествия. Хотя раньше, при коммунистах, она еще кое-как сводила концы с концами, все же цены были не такие сумасшедшие, и не было такого беспредела, как сейчас. Они бы счастливы были, если бы их отдали Японии, японцы бы уж навели там порядок, и они бы жили припеваючи, но Японии их никто отдавать не собирался. А вообще, она все алименты, которые до сих пор поступали на счет Анжелы от ее бывшего мужа, складывала на книжку, а потом переводила их в доллары, и вот теперь привезла Анжелочке, потому что деньги ей тоже понадобятся, ведь без денег никуда не денешься…
Старшая девочка, Иветта, была очень хорошенькая, настоящая нимфетка, с длинными тонкими ножками и ручками, крашеными синими ноготками и маленькими, едва наметившимися грудками. Когда Маруся приехала, она сразу же попросила у нее автограф, который аккуратно уложила в пластиковую папочку, и тут же похвасталась автографом Явлинского, а потом заговорщически спросила:
— Вы видели когда-нибудь чешские деньги? Пойдемте, я вам покажу! — и повела Марусю в свою комнату, где, усевшись на кровать, достала из синей тумбочки кожаный кошелечек и бережно разложила у себя на коленях купюры достоинством в пятьдесят, сто, двести крон, а также чешские монеты.
— — Вот, — со вздохом повторила она, — вот это чешские деньги. А немецкие деньги вы когда-нибудь видели?
Маруся ответила, что да, видела, да и чешские, вообще-то, тоже видела, и девочка несколько смущенно воскликнула:
— Да? А я-то думала… Ну ладно!
***
Маруся пробыла в Праге уже целую неделю, но ей так за это время и не удалось ни разу встретиться с Алешей Закревским, потому что в первые дни, когда она приехала, он был в Нью-Йорке, потом работал ночью, а потом Владимир сказал Марусе, что Алешу на какое-то время вообще отстранили от эфира, причем, вроде бы, даже «за пропаганду сатанизма» — так это сформулировал Владимир. На самом деле, как она узнала позже, просто в эфир не прошла одна из алешиных передач, посвященная Алистеру Кроули, то есть она вышла в каком-то совершенно исковерканном до неузнаваемости и сокращенном до трех минут варианте. И только на восьмой день своего пребывания в Праге Марусе удалось созвониться с Алешей и договориться о встрече на радио.
На следующий день утром Маруся натолкнулась на него прямо при выходе из лифта в коридоре Русской службы. Он стоял и беседовал с Бейлисом. Бейлис, как ей показалось, просил у него за что-то прощения:
— Вы меня извините, Алексей Борисович, что я не интересуюсь оккультизмом, но я вынужден был сократить эту передачу, потому что она мне показалась слишком длинной и затянутой, так что вы уж на меня, пожалуйста, не обижайтесь, просто мне эта тема не кажется очень близкой и интересной широкому кругу слушателей, и, кстати, я тут недавно в Нью-Йорке купил себе замечательную пластинку Джона Леннона, мне кажется, было бы очень интересно, если бы вы смогли сделать передачу об этом певце, так как его до сих пор еще не достаточно хорошо знают в России…
Алеша стоял, молча и как бы немного отстранившись от Бейлиса, внимательно глядя на него сквозь очки, на лице его застыла гримаса столь явного холодного презрения и отвращения, что Маруся даже немного испугалась, однако Бейлис добродушно улыбался Алеше и, казалось, совершенно ничего не замечал. На прощание он еще раз посоветовал Алеше хорошенько подумать о Ленноне, еще раз радостно кивнул Марусе и отправился в свой кабинет.
— Надо же, он не интересуется оккультизмом! Что ж мне тебя, блядь, на черную мессу пригласить, что ли? — громко и отчетливо произнес Алеша и повернулся к Марусе.
— Ну что, он уже сводил вас в ресторан? — Алеша жестом указал в направлении кабинета Бейлиса, — Рассказал уже, как его на зоне ВОХРы черной икрой кормили? Он ведь на зоне икру ложками жрал, плейбой хуев!..
На самом деле, пару лет назад Маруся уже видела Алешу, с которым заочно была знакома и раньше, так как переписывалась с ним по электронной почте. Но впервые она его увидела, когда он приехал в Петербург и выступал в одном из залов музея-квартиры Пушкина на Мойке, 12, где тогда собралось довольно много народу.
Алешу представил Игорь Кондратюк, юноша с огромным носом, крошечным лбом и очень утонченными манерами, который возглавлял литературный клуб «Интеграл», организовавший выступление. Алеша читал отрывки из своего нового романа «Досье смерти», где цитаты из «Майн Кампф» перемежались с матерными словами, цитатами из Талмуда и заклинаниями на непонятном языке, который, как уточнил Алеша, ввел в обиход Алистер Кроули. Алеша завершил свое выступление словами: «Хайль Хуй! Хайль жопа! Хайль пизда! Зик Хайль! Хайлю Хуй! Хую Хайль! Хенде Хох! Всем пиздец!» После этого в зале воцарилась гробовая тишина.
С заключительным словом выступил Тарас Загорулько-Шмеерсон, который тоже был членом «Интеграла». Маруся, всякий раз, когда заходила в бар при галерее неподалеку от Невского, встречала его там, он обязательно сидел за столиком, тупо уставившись своими маленькими поросячьими глазками поверх съехавших на нос круглых очечков на неизменно стоявшую перед ним бутылку пива, казалось, он там живет, к тому же, жена его работала в этом баре буфетчицей. Загорулько начал свою речь издалека, по его мнению, сейчас, после Витгенштейна и Барта, уже невозможно относиться к поэтическому высказыванию так, как раньше, потому что это высказывание утратило свой прежний сакральный смысл, отождествившись с высказыванием обыкновенной человеческой речи, отчего в постмодерной культуре возникла революционная ситуация, когда низы, то есть читатели, уже не хотят читать стихи, а верхи, то есть поэты, не могут их писать, поэтому все современное искусство как бы застыло в ожидании нового дискурса, способного адекватно передать новые реалии и оттенки бесконечно дробящегося и ускользающего смысла.
Такая ситуация, по его словам, уже существовала в начале века в физике, и еще Макс Планк предупреждал, что главной проблемой всей современной науки рано или поздно станет поиск нового дискурса, способного восстановить возникший после Эйнштейна дисбаланс между означаемым и означающим, референцией и смыслом. Именно эти проблески нового дискурса Загорулько в изобилии обнаружил в текстах Алеши Закревского, и это обстоятельство внушало ему надежду, вместе с тем, он считал, что в этих текстах очень силен деструктивный момент, так как они обращены не только к будущему, но и к прошлому, к традиции Серебряного Века, «читая их каждый как бы бродит между руин старого здания, на стенах которого еще сохранились обрывки старых обоев с поблекшими картинками и полустертыми надписями, поэтому не случайно, например, Алексей Закревский обращается в своих текстах к трагической судьбе Эрнста Рема, так как каждый из нас и сегодня еще способен почувствовать некоторое обаяние „Гибели богов“…». В этот момент сидевший в первом ряду здоровенный бритый наголо мужик вдруг вскочил и со словами: «Педераст проклятый!» — набросился на Загорулько и начал его душить.
Первой к Загорулько на помощь пришла его жена, через некоторое время подоспели еще несколько человек. Мужика пришлось выносить из зала на руках, а он, извиваясь всем телом, продолжал вопить: «Сука, педераст проклятый, когда ваши придут к власти, они тебя первого замочат!» — по-прежнему обращаясь исключительно к Загорулько. Алеша все это время стоял в стороне и с любопытством наблюдал за происходящим сквозь очки, у него были коротко подстриженные темные волосы и неестественно бледное с желтоватым отливом лицо, какое бывает у людей с больной печенью: эта бледность еще сильнее подчеркивала застывшее на его лице выражение холодного презрения и отвращения к окружающим.
В это мгновение из задних рядов раздался пронзительный старческий визг. Маруся обернулась и заметила маленькую хрупкую старушку, которая тоже вскочила и вопила, потрясая иссушенным сморщенным кулачком, обращаясь на сей раз уже к Алеше. Смысл ее слов Маруся до конца не поняла, до нее донеслись только обрывки фраз, она кричала, что «нельзя устраивать такое безобразие в музее Пушкина», что такие стихи «все равно обязательно канут в Лету», и еще что-то о Ленине и о Сталине… Но старушку уже никто не выводил, так как все постепенно сами встали и вышли на улицу. Из-за возникшей суматохи Маруся тогда так и не смогла подойти к Алеше и поговорить.
Вечером Марусе позвонил секретарь Руслана, которому уже рассказали о происшедшем:
— А что это за молодой фашист напал сегодня на еврея и гомосексуалиста Алешу Закревского? — поинтересовался он. — Я тут по просьбе Руслана обзвонил уже всех своих знакомых журналистов, не могут же они обойти вниманием факт такого вопиющего мракобесия…
На следующий день в нескольких питерских газетах действительно появились заметки, где сообщалось, что некий бритоголовый скинхед попытался сорвать вечер поэта Алексея Закревского, однако распоясавшийся фашиствующий хулиган был с позором выведен из зала.
***
Алеша издавал в Петербурге «Черный журнал», он уже довольно давно, лет пятнадцать тому назад, отпочковался от самиздатовского журнала «Черный квадрат», который издавали Петров и Голимый. «Черный квадрат» существовал только в рукописном варианте, печатался на машинке и ходил по рукам в количестве пятидесяти экземпляров. К настоящему моменту о его существовании многие уже успели позабыть, в то время как «Черный журнал» теперь выходил типографским способом тиражом в пятьсот экземпляров, и Алеша полностью его финансировал, являясь одновременно его издателем и главным редактором. Из-за названия этот журнал те, кто его ни разу не читал, часто приписывали возникшей в Ленинграде примерно в то же время, то есть лет пятнадцать назад, группе художников «Черненькие», хотя, на самом деле, он к ним не имел абсолютно никакого отношения и даже, вроде бы, возник на год раньше этого объединения.
«Черненькие» прославились главным образом тем, что рисовали свои картины говном, они выработали даже свой особый стиль поведения — ходить в расстегнутых штанах, не мыться, не стричься, портить воздух, вообще, дурно пахнуть в их среде считалось знаком высшего шика, при этом они всячески подчеркивали свое несходство с панками, которые, на их взгляд, были слишком агрессивными, что, по их мнению, не соответствовало истинно русскому характеру, давшему таких национальных героев, как Обломов, например, который тоже месяцами лежал в комнате и, очевидно, не мылся, не стригся и ходил прямо под себя: во всяком случае, в их трактовке это было именно так. Самой главной своей отличительной чертой от панков они считали то, что, в отличие от тех, они никуда не стремились, даже вниз, а просто подчинялись обстоятельствам и плыли по течению. «Болтаться как дерьмо в проруби!» — это был главный девиз их объединения, который даже висел над входом в галерею «Черненькие — Говномес». Любимым же их выражением было «вляпаться»: «Ну что, опять вляпался во что-нибудь, дурачина, черт бы тебя побрал!» — неизменно говорили они друг другу при встрече, добродушно похлопывая по плечу. Основатель этого движения, Витя Черненький-младший, здоровенный огромного роста и с огромным пузом бородатый мужик когда-то в застойные времена работал на очистных сооружениях, и там так горячо успел полюбить говно, его цвет, вкус и запах, что в конце концов пришел к выводу, что это самый выразительный и подходящий для скульптур и живописи материал.
Первую грандиозную выставку в Д/к Карла Маркса на Обводном «Черненькие» устроили на Новый год, выставка называлась «Конфетки из говна», и представляла собой большую новогоднюю елку, всю увешанную «конфетками», то есть завернутым в конфетные обертки понятно чем. Во время ее открытия Витя Черненький даже с жадностью сожрал несколько «конфеток» на глазах у всех; там же, на этой выставке, было представлено еще несколько первых «говнописных» полотен, принадлежавших кистям членов этого объединения: «Русские свиньи», «Ебаться-сраться», «Мои говнодавы» и скульптурная композиция «Жидкий стул». Отец Вити, Виктор Черненький-старший, в свое время входил в группу все тех же «маресьевцев», которых его сын с друзьями называли своими прямыми учителями.
Подобного рода акции очень быстро сделали «Черненьких» едва ли не самым известным питерским художественным объединением, как в России, так и за ее пределами, во всяком случае, после девяностого года без их участия не обходилось практически ни одно официальное мероприятие, организованное на уровне комитета по культуре мэрии.
Двоих «Черненьких» — Елену и Геннадия Бердяевых — Маруся несколько раз видела в гостях у писателя Пересадова, правда, там они всегда были очень хорошо умыты и одеты, и вообще, как они объяснили Марусе, в отличие от Вити, они предпочитали работать в перчатках, а расстегивали штаны и обливали себя мочой только по случаю вернисажей. Своих детей они тоже предпочитали не водить в галерею «Черненькие-Говномес» и даже запрещали им туда ходить. Они же были инициаторами некоторых нововведений среди «Черненьких», то есть настояли на том, чтобы говно на картинах покрывалось специальной пленкой, в противном случае использовался специальный «говнозаменитель», то есть вещество, внешне очень напоминающее говно, но без его характерного запаха и других неприятных свойств, что, конечно, было сильным отступлением от первоначального канона.
У Пересадовых Елена и Геннадий обычно недолго сидели за общим столом, они почти сразу же уединялись с Кирюшей в соседнюю комнату, где, насколько понимала Маруся, обсуждали какие-то свои публикации и совместные интервью, связанные, главным образом, с празднованием предстоящих юбилеев Пушкина и Набокова, в оргкомитет по организации которых они входили, а Пересадов даже был их председателем. По мнению Любаши, ее Кирюша в душе был настоящий «черненький», так как всегда покорно подчинялся обстоятельствам и всю свою жизнь плыл исключительно по течению, хотя официально в эту группу Пересадов, конечно, никогда не входил, и все свои книги писал исключительно чернилами и в основном о жизни отечественной интеллигенции, но общаясь с Геннадием и Еленой, он все-таки немного «вляпался».
Совсем недавно Маруся даже видела по телевизору фильм, точнее, одну серию из длинного сериала о сотруднике ФСБ, который расследовал похищение рисунка Малевича из Русского музея. Поиски этого рисунка с неизбежностью привели сотрудника в галерею к «Черненьким», куда он проник, прикинувшись художником, вытащив при входе из-за пазухи маленький карандашный рисунок, так как, видимо, по мнению режиссера, вход в эту галерею был строго ограничен и попасть туда могли только избранные, не иначе как предъявив какой-нибудь рисунок, точно так же, как при входе в Большой дом на Литейном у всех требуют пропуска. Этот любительский рисунок действительно послужил своеобразным пропуском сотруднику, потому что, после некоторых колебаний, стоявший на входе здоровенный мужик в расстегнутых штанах, предварительно расстегнув ему ширинку и пощупав яйца, его все-таки туда пропустил. В следующем кадре все «Черненькие», включая Витю, Геннадия и Елену, которые в фильме играли самих себя, уже стояли в центре галереи, а сотрудник ФСБ, после некоторых колебаний и сомнений, во время которых он застенчиво и с затаенным восторгом, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на эту живописную группу, где все были в обычных своих нарядах: расстегнутых штанах и рваных на груди тельниках, облитых мочой, — все-таки в конце концов решился подойти к самому внушительному и важному среди них, Вите, который, действительно, примерно на голову был выше всех остальных, а также в два раза превосходил их в обхвате. Сотрудник ФСБ доверчиво протянул ему свой рисунок, ибо именно таким путем, прикинувшись художником, он надеялся проникнуть в артистическую среду, которую считал очень закрытой и непроницаемой даже для таких, как он. Витя двумя пальцами презрительно взял его рисунок, с отвращением приблизил его к своему носу и, сморщившись, понюхал, после чего небрежно швырнул рисунок на пол.
— Ну разве так рисуют! Из тебя, боец, такой же художник, как из говна — пуля! — после этих слов он схватил сотрудника за шкирку и подтащил его к одному из густо обмазанных говном полотен.
— Вот как надо рисовать! — сказал он и ткнул того лицом в говно, разразившись при этом каким-то утробным нечеловеческим хохотом: Уа-а-а-а!
***
В последнем номере «Черного журнала» Алеша опубликовал несколько марусиных рассказов и ее перевод небольшой повести Батая, который она в свое время делала по просьбе Волковой для ее серии «Секс-беспредел» в издательстве Кокошиной. Это было в самом начале девяностых, когда Батай еще почти не издавался, именно за получением гонорара за этот перевод Маруся и поехала тогда в Москву, когда Костя нашел на тротуаре маленькое золотое колечко с бирюзой.
Кокошина, по своему обыкновению, сразу же вручила Марусе деньги, правда, не очень много, даже бегло не ознакомившись с текстом, однако уже вечером в квартире, где Маруся остановилась, раздался телефонный звонок. Кокошина все-таки заглянула краем глаза в рукопись и одной странички текста ей хватило для того, чтобы прийти в абсолютный ужас и замешательство, она требовала, чтобы Маруся вернула ей деньги, а текст забрала на переработку, так как то, что там написано, было, по ее мнению, совершенно невозможно печатать, и дело было не в качестве перевода, о котором она вообще ничего не говорила, а исключительно в содержании. Хотя Волкова в свое время настояла на названии серии «Секс-беспредел», но все равно, Кокошиной хотелось, чтобы в публиковавшихся в ней книгах было побольше беспредельной нежности и любви, а не откровенной порнухи, как в повести Батая, с которой она только что немного ознакомилась; именно в таком духе она и предлагала Марусе слегка переработать Батая, она не исключала и того, чтобы Маруся туда кое-что добавила от себя, явно она этого не говорила, но всячески давала понять, что она бы против этого не возражала.
Примерно через два часа к Марусе приехала Елена Станиславовна, работавшая редактором у Кокошиной, и вернула Марусе текст для переработки, однако деньги Маруся возвращать Елене Станиславовне отказалась, сказав, что завтра утром она сама придет к ним в издательство и все уладит. На самом же деле у Маруси уже был обратный билет на поезд, который отходил в Петербург вечером того же дня. На этом поезде, вместе с выплаченным гонораром, Маруся благополучно и уехала к себе домой. После этого у нее дома еще раздалось несколько междугородных звонков, но она просто не брала трубку, а потом звонки прекратились, и Кокошина как будто про эту рукопись даже забыла. Забрав деньги, Маруся не чувствовала ни малейших угрызений совести, потому что она честно выполнила порученную ей работу и прекрасно понимала, что этот текст Батая Кокошина, видимо, не издаст никогда, так как переделать его в нужном для нее ключе было совершенно невозможно. Она сама могла бы в этом убедиться, если бы повнимательнее прочитала хотя бы несколько страниц из него.
Батай нагромоздил в этой повести невероятное количество всевозможных половых актов и извращений, такого количества ему удалось достичь за счет того, что он практически их не описывал, а просто называл или перечислял, его персонажи трахались в поле на траве, под дождем, в шкафу, на кухне, на скале у моря, в саду; хотя в целом, как Марусе показалось, слово «извращение» ко всем этим актам, пожалуй, не очень подходило, все было достаточно традиционно, не более экзотично, чем, например, в Кама-Сутре, где описываются всевозможные позы. У Маруси сложилось такое впечатление, что автор куда-то очень спешил, и в душе ему было даже лень все это описывать, поэтому он и решил взять, что называется, количеством, а не качеством, разместив на пятидесяти страницах множество всевозможных половых актов и несколько убийств. Несколько раз, правда, его герои друг на дружку помочились, верхом же извращения в этой повести была сцена, где героиня соблазняла священника во время исповеди, а потом с друзьями они его убивали прямо в церкви, но и это Марусе показалось достаточно традиционным и до банальности прямолинейным и естественным, ведь никто из героев этой повести ни разу даже не поел дерьма, как у Сада-Пазолини… Иногда, правда, главное повествование прерывалось ради небольших лирических и пейзажных зарисовок, когда автор писал что-то такое о звездах, вечности и бесконечности, такие зарисовки Маруся тоже любила делать в детстве в своих школьных сочинениях, слегка отступая от темы, чтобы придать сочинению некоторую значимость и весомость, за это ее обычно очень хвалили учителя и всегда в таких случаях ставили ей «пятерки». Жаль, что Кокошина натолкнулась не на такую страницу Батая, ей бы наверняка это понравилось…
В целом, после Селина или Жене, работа над этим переводом показалась ей совсем несложной и заняла у нее где-то полторы недели, к тому же автор использовал короткие назывные предложения и не особо заботился о разнообразии лексики, но переделать эту повесть все равно было невозможно из-за ее «концентрированности», сколько ни убавляй, все равно осталось бы то же самое, разве что оставить одни лирические отступления о звездах и вечности, но тогда бы она уже очень странно смотрелась в серии «Секс-беспредел», так что Маруся правильно сделала, что оставила себе деньги, потом бы она от Кокошиной уже никогда их не получила и только зря потратила бы свое время и силы…
Алеша, когда каким-то образом, узнал о наличии у нее этого перевода, сразу же загорелся желанием напечатать его в своем журнале, Батай к тому времени уже входил в моду. Тогда он и прислал ей из Праги свое первое послание по мейлу — так, насколько Маруся помнила, они с ним заочно и познакомились. Но так как этот перевод делался очень давно, когда у Маруси еще не было компьютера, у нее не оказалось его компьютерного набора, он, вообще, хранился у нее в столе в единственном машинописном экземпляре, поэтому Алеша обещал прислать к ней некую Каганович, которая жила в Петербурге и обычно собирала тексты для «Черного журнала». В другом случае Маруся, возможно, и не рискнула бы отдавать малознакомым людям единственную рукопись своего перевода, но этот текст ей было почему-то не особенно жалко.
Кстати, второй экземпляр перевода Батая исчез у Маруси уже много лет назад при очень загадочных обстоятельствах. К ней в гости тогда напросился какой-то совершенно ненормальный тип; как он к ней попал, Маруся уже не помнила, но тогда она еще иногда общалась с разными кретинами из компании дочки «инженера человеческих душ» Наташи, ее мужа, Оли, Лары, Левы и остальных, вот оттуда, откуда-то из мрака, и возник этот Паша Сердюков. Он весь дергался, был очень нервным и вообще вел себя очень неестественно, на одном месте не мог усидеть и секунды, зато он представился чуть ли не главным редактором выходившего в качестве приложения к газете «Реклама-Шанс» журнала «Встреча», где печатались достаточно смелые по тем временам тексты. Маруся случайно обмолвилась, что у нее есть невостребованный перевод Батая, имени которого Паша, конечно, не знал, но Маруся вкратце изложила ему содержание; более того, ему, как и Кокошиной, чтобы понять главное, хватило и одной страницы, он сразу же вцепился в этот перевод, наобещал Марусе какие-то баснословные гонорары, которые у них платили, и исчез, причем в самом прямом смысле этого слова, потому что ни на работе, где он до того дня действительно работал, что подтвердили Марусе его сослуживцы, и которые тоже не знали, куда он делся, ни дома, где в трубке, когда она звонила, на фоне отдаленно звучащей музыки раздавалось какое-то хлюпанье и мычанье; но, стоило ей произнести таинственное имя Паши Сердюкова, как там сразу же бросали трубку, причем голоса, которые порой отвечали Марусе на том конце провода, судя по всему, принадлежали совсем простым и далеким от журналистики, даже уровня журнала «Встреча», людям, скорее всего, это были его соседи по коммунальной квартире, так что Маруся тем более не могла понять столь неестественную реакцию на ее элементарную просьбу — позвать Пашу Сердюкова.
И только уже пару лет спустя в Париже Жора, который тогда работал в «Русской мысли» и, как выяснилось, тоже немного знал Пашу Сердюкова, и на него тот тоже производил несколько странное впечатление, хотя Жора и охарактеризовал его Марусе как человека весьма воспитанного и энергичного, так вот, Жора сказал Марусе, что слышал, хотя, может быть, это и не точно, что Паша Сердюков, вроде как сделал операцию по перемене пола, и по всему получалось, что сделал он ее чуть ли не сразу же после того, как он в последний раз встречался с Марусей и забрал у нее Батая. Таким образом, по мнению Жоры, Паша Сердюков тогда все-таки не совсем исчез, а просто перешел как бы в несколько иное измерение, в иной пол, прихватив с собой Батая, и там, в той реальности, он, видимо, читал его совсем иначе, наоборот, принимая мужчин за женщин, а женщин — за мужчин…
Каганович на поверку оказалась девушкой очень рассеянной, потому что смогла найти марусину квартиру только с третьего раза после того, как они в первый раз с ней договорились о встрече. Сначала она почему-то решила, что перепутала номера квартиры и дома, приняв дом за квартиру, а квартиру за дом, и потом, переставляя их много раз в уме, бродила в течение трех часов по улицам в центре города, где жила Маруся — это все она потом рассказала Марусе по телефону. Во второй раз она поехала к Марусе, но забыла бумажку с адресом дома и вспомнила об этом только в метро, поэтому ей снова пришлось вернуться, и она снова по телефону звонила Марусе и извинялась. И только в третий раз она, наконец, пришла.
Как оказалось, помимо «Черного журнала», на досуге она еще писала искусствоведческие исследования и, кажется, даже целую диссертацию о «маресьевцах» и верных продолжателях их традиций в петербургском искусстве, «черненьких», которые, помимо картин, оказывается, писали еще стихи и прозу. Названия этих произведений Каганович сказать Марусе постеснялась, зато посетовала, что уже давно, лет десять-одиннадцать назад, когда «черненькие» только-только еще появились в Петербурге, спустя всего года четыре после их возникновения, она предлагала их тексты Алеше, но тот сделал такую жуткую мину на лице, замахал на нее руками и заявил, что все это давно безнадежно устарело, а ведь они тогда еще только-только начинали, и публикаций-то у них почти никаких не было…
***
Нет, Алешу совсем не интересовали «Битлз», а от Леннона его вообще тошнило… На улице они поймали с Марусей такси и помчались вдаль по вечерней Праге, Алеша хотел отвезти Марусю в свой любимый ресторан, хозяином которого был итальянец, он держал этот ресторан вместе с сыновьями, и они сами там все готовили. Сперва Алеша заказал бутылку кьянти, потом они решили взять холодные закуски, которые назывались здесь «буфет» и которые они сами накладывали себе на тарелки, там были различные соленья и маринады, а потом Алеша предложил Марусе выбрать спагетти, там были самые разные спагетти, и Маруся выбрала себе спагетти с дарами моря, ей принесли огромную тарелку со спагетти, перемешанными с какими-то моллюсками, устрицами и кусками рыбы, а себе он заказал ризотто, оно здесь было очень хорошее, хотя Маруся совершенно не понимала, что это такое, оказалось, что это блюдо из риса с разными приправами; на десерт Маруся взяла себе какие-то кусочки бисквита с шоколадными штучками и со сливками, как это все называлось, она почти сразу же забыла… Прислуживала же им высокая, почти двухметрового роста француженка, Алеша сказал, что это любовница хозяина. Когда они уходили, Маруся забыла свой портфель, и француженка с презрением ей сказала: «Мадам, вы забыли ваш чемодан!» — хотя это был никакой не чемодан, а портфель, причем французский, Маруся им очень гордилась.
После этого они пошли пешком в бар «Эскалибур», Алеша уверял, что там с наступлением темноты на втором этаже продают прекрасный кокаин, самого высшего качества, они уселись за столик у окна, и Алеша предложил Марусе выпить граппы, вскоре официантка принесла две маленькие рюмочки граппы, две чашки чаю и два куска лимона, они довольно быстро все это выпили, после чего Алеша предложил взять еще, и опять официантка принесла то же самое: граппу, чай, лимон,- вскоре перед Алешей и Марусей на столике образовалась целая куча пакетиков из-под чая и лимонных корок, официантка смотрела на них с легким изумлением, но Алеша продолжал заказывать еще и еще…
Когда они вышли на улицу, Алеша опять поймал такси, и где-то через пять минут, а может быть, через пятнадцать, или даже через полчаса, потому что Маруся после граппы уже начала терять ориентацию во времени, они уже были около бара «Маркиз де Сад», здесь собиралась по преимуществу молодежь, панки, хиппи, рейверы, главным образом, американцы и западноевропейцы. Там Алеша взял еще себе и Марусе по огромному бокалу красного вина, после этого Маруся уже почувствовала, что сейчас потеряет сознание, а Алеша, когда Маруся отказалась пить, дико захохотал, оскалив зубы, и завопил: «Вы что же, Маруся, хотите сказать, что я пьяная свинья?». Маруся слушала его немножко как в тумане и в отдалении, а ведь Владимир не далее, как вчера уверял ее, что Алеша совсем не пьет, потому что ему после гепатита запретили спиртное врачи.
Алеша заказал себе и Марусе еще по бокалу красного вина и залпом его выпил, Маруся к своему даже не притронулась, она чувствовала, что если выпьет еще хотя бы грамм, то начнет блевать прямо здесь, у стойки бара, ей мучительно хотелось выйти на улицу. Алеша как будто это почувствовал и стремительно встал со своего места, сильно качнувшись и уронив за собой стул. Оказавшись на улице, на свежем воздухе, Маруся сразу же почувствовала себя лучше, и даже чувство тошноты, только что подступавшей к горлу, вдруг отступило, и осталось только одно приятное чувство легкости и опьянения.
Теперь по просьбе Маруси они отправились в гей-клуб. На сей раз они долго ехали по темным улицам в неизвестном направлении, мимо каких-то невероятных причудливых форм сказочных зданий, неподвижно застывших и не менявшихся в течение многих-многих веков, отчего они чем-то напоминали Марусе декорации к какому-то кукольному спектаклю, который уже когда-то давно-давно, еще во времена ее детства, закончился, но их почему-то до сих пор забыли убрать. Здесь, между этих домов, когда-то ходил и Кафка, которого Костя так настоятельно советовал Марусе изжить из своего сознания и который тоже теперь казался Марусе всего лишь куклой из ее прошлого, и ей не составляло большого труда взять ее и выбросить вон, но куда — Маруся не понимала, кажется, Костя предлагал его сжечь…
Днем, до встречи с Алешей, она довольно долго бродила по Праге, безуспешно пытаясь найти еврейский квартал со старинным кладбищем, о котором много слышала и которое ей все настоятельно советовали посмотреть. Она спрашивала дорогу у прохожих, и те всякий раз ей ее показывали, но всякий раз, идя в указанном направлении, она каким-то образом проходила мимо, и уже следующий прохожий, которого она спрашивала об этом кладбище и квартале, указывал ей совершенно в противоположную сторону. Так повторялось много-много раз, и Маруся очень устала, пока она наконец не набрела на то, что искала. Было уже поздно, и кладбище было закрыто для посещений, только вдоль его стен еще сидели многочисленные торговцы и продавали всевозможные сувениры на память, среди которых было множество самых невероятных вещей, кубиков, шариков, магических кристаллов, талисманов, звезд, глиняных фигурок, медальонов, ожерелий, бус, росписных глиняных кружек, подсвечников с огромным количеством гнезд для свечей, палочек, кружочков, камней различной формы, в таком количестве в одном месте Маруся ничего подобного никогда не видела. Она купила там маленького глиняного Голема в подарок Самуилу Гердту и амулет для Руслана, в виде орла с распростертыми крыльями, к которому прилагалась маленькая инструкция, что этот амулет является знаком Власти и Победы над злыми силами…
Наконец такси остановилось у незаметного здания с темной дверью, у входа их встретил здоровенный мужик, оказалось, что впускают туда без билетов, платить надо было при выходе. Алеша принес из бара текилу себе и Марусе. Он хотел закурить, но у них не оказалось спичек, и Алеша указал Марусе на двух угрожающего вида мужиков в кожаных жилетках, сидевших в углу, бритых наголо, с мощными обнаженными мускулистыми руками:
— Маруся, прикурите у них, тогда я приглашу вас на танец!
Вид этих мужиков пугал Марусю, но она все же пересилила себя и подошла, они, не глядя, протянули ей зажигалку, она прикурила, а потом и Алеша прикурил от ее сигареты, но он так и не пригласил ее на танец, очевидно, забыл.
Маруся с интересом огляделась по сторонам. Народу вокруг было еще не очень много, стены бара были обиты мятой серебряной фольгой, напротив их столика на сцене без остановки танцевали два профессиональных танцора, один был в белом матросском костюме, другой — в черном трико.
— Алеша, а вы часто здесь бываете?
Алеша с сомнением поглядел на Марусю:
— Послушайте, Маруся, я же читал ваш роман, вы ведь ненавидите весь мир…
Нет, эти мальчики в кожаном, которые ходят с хлыстами и привязывают себя к унитазам, чтобы на них все мочились, его не интересуют, сам он так никогда не делал, есть, конечно, в этом что-то приятное, испытать подобное унижение, когда тебе в лицо бьет струйка мочи, но он это не пробовал… И сосать хуи или жопу подставлять Алеша не любил и не стал бы этого делать никогда. Он вообще с удовольствием имел бы дело с бабами, но с ними всегда возникают какие-то проблемы, им что-то надо, от них не отвязаться, а мальчика он всегда мог послать на хуй. Например, просыпается он утром и видит на подушке рядом с собой чью-то физиономию, какого-то юношу, которого он накануне подклеил в баре, тот, конечно, уже осмотрел квартиру, ему, понятное дело, понравилось, и он не прочь здесь у него задержаться, но Алеша с ним мог особенно не церемониться: дал ему двести крон — и гуд бай!
Алеша любил молодых блондинов, а у них на работе, в основном, были стареющие брюнеты, причем все, как один, страдающие слабоумием и импотенцией, у них ни у кого уже давно не стоит, и они и представить себе не могут, чтобы у кого-нибудь вообще стоял, а тем более на такие вещи, на которые у них не стоял никогда. Ему вообще его работа на радио уже порядком остоебенила, хотя, конечно, это лучше, чем охранять металлические болванки, как он это делал в этом вонючем Ленинграде на таком же вонючем сталелитейном заводе… Красавцем себя Алеша не считал, но зато голос у него был очень радиогеничный — такой приятный бархатный баритон — и в этом тоже было существенное преимущество работы на радио. Из-за этого голоса ему даже поручили записать ночную рекламную заставку их станции, своеобразное приветствие их постоянным слушателям, что-то вроде «Не спи — замерзнешь!», хотя нормальный человек по ночам радио слушать не будет, в этом Алеша не сомневался, особенно такую туфту, как у них гнали на станции все эти выжившие из ума диссиденты и борцы за права человека, которые так и горели на работе и выкладывались на всю катушку, а Алеша так выкладываться не мог и не собирался, поэтому начальство к нему относилось с большим недоверием. Правда, голос у него был ничего, вот из-за этого голоса его и терпели, ну и еще из-за его ориентации, конечно. У европейцев ведь, которые владели радиостанцией, с этим строго: насчет цветных, пидоров и женщин, особенно, — их лучше не трогать, и это все знают. «Демократия — это гарантия прав меньшинства!» В самом деле, пидарас — это звучит гордо! Только вот вслух об этом почему-то все предпочитают не говорить.
Алеша бы с удовольствием их всех в прямом эфире на хуй послал, вместе с их надеждами на лучшее будущее и правами, «их» — это, конечно, в первую очередь своих бывших сограждан, которые ему еще раньше, на родине, так остоебенили, что он на эти немытые хари до сих пор без отвращения смотреть не мог. Слава богу, что, когда он им сладким голосом спокойной ночи желает, он их хотя бы не видит — и на том спасибо, а то бы его просто стошнило, прямо на микрофон. Но тогда бы он лишился работы, а значит, и комфорта, роскошной квартиры в дипломатическом квартале, возможности свободно ездить по миру, нет, спасибо, уж лучше потерпеть немного, накопить денег и на старости лет уехать куда-нибудь на Тайвань или на Филиппины, где такие красивые мальчики, каких больше нигде нет.
У Алеши были богатые родственники в Нью-Йорке, владельцы сети ювелирных магазинов, но пока все они были живы, так что в ближайшем будущем ему наследство не светило, а он очень бы хотел иметь много денег, потому что только деньги позволяют человеку вынести отвратительную старость, которая пугала Алешу страшнее смерти. В прошлом году, когда он был на Тибете, прорицатель нагадал ему, что он доживет до восьмидесяти девяти лет, это же просто ужас, а умрет он от рака легких, то же самое сказала ему там и другая старая гадалка, каждый из них взял за свое гадание по сорок долларов, хотя, может быть, они просто сговорились, так, он слышал, там часто делают. В конце концов, каждый зарабатывает деньги для своих целей, у Алеши, например, были друзья, которые содержали в Германии несколько сталелитейных заводов только для того, чтобы покупать себе хорошо очищенный героин, это был героин такого хорошего качества, что они прекрасно выглядели, и по их внешнему виду ничего нельзя было даже заметить, они даже машину водили под кайфом, носились с дикой скоростью…
А Алеше деньги нужны были для того, чтобы скрасить эту вонючую старость, кроме того, если у него будет много денег, то он мог бы купить в центре Нью-Йорка огромный небоскреб, чтобы потом взобраться на него, на самый верх, и оттуда сверху плюнуть на головы всех этих придурков, которые копошатся внизу, или, еще лучше, помочиться сверху на их головы, оросить их этим небесным дождем, а потом уже взорвать этот небоскреб вместе с собой… Впрочем, все это слишком грандиозно и поэтому пошло, да и денег у него никогда столько не будет, поэтому и говорить не о чем. Можно просто купить себе маленький ресторанчик где-нибудь на Тайване, небольшой отель, и потихоньку мочить своих постояльцев, подсыпая им медленно действующий яд и представлять себе, как они будут корчиться в муках уже у своего домашнего камелька, не понимая, как Алеша их осчастливил, избавив от этой отвратительной гнусной старости; можно также запускать им под двери местных ядовитых змей и скорпионов, только тогда придется возиться с похоронными расходами, а Алеше этого делать совсем не хотелось, зачем ему все эти лишние хлопоты…
Нет, лучше он уедет куда-нибудь на Сицилию и купит себе там дом Алистера Кроули, где, кстати, сохранились замечательные фрески: крокодил отсасывает у бегемота, женщина сношается со слоном, жираф засовывает голову в зад медведю, — и там, среди этих замечательных, радующих глаз фресок, в этом доме, можно будет спокойно доживать свои дни вдали от мирской суеты, писать мемуары, а на досуге лизать бритые затылки юных последователей Муссолини, предварительно намазав их медом, не хуи же сосать, в самом деле!…
В баре было душно, и рубашка на груди у Алеши была расстегнута почти до пояса. В это мгновение Маруся заметила, что рядом с шестиконечным золотым могендовидом на золотой цепочке, который Маруся заметила на груди у Алеши еще вчера, на работе, теперь появилась еще и черная свастика на тонком шелковом шнурке. Поймав недоуменный взгляд Маруси, Алеша усмехнулся и сказал:
-Одно другое уравновешивает!..
Маруся на несколько минут ушла в туалет, когда она вернулась, Алеши за столиком уже не было, он куда-то исчез, Маруся села за стол и стала ждать, вокруг уже во всю мощь грохотала музыка, в зале уже было довольно много народу, все прыгали, извивались и танцевали, а два танцора по краям сцены, матрос и в трико, продолжали методично отплясывать, как в самом начале, но Алеши все не было… Маруся спустилась вниз к выходу, но там ей дорогу преградил здоровенный мужик, она совсем забыла, что платить в этом клубе надо было при выходе, а при входе каждому там просто давали небольшую бумажку, на которой отмечалось количество выпитого, потерявший же такую бумажку должен был заплатить астрономический штраф, но эта бумажка, к счастью, у Маруси была с собой, а так как в течение вечера везде постоянно за все платил Алеша, то у нее там были одни нули, поэтому ей нужно было заплатить только за выход, пятьдесят крон, такая сумма у нее нашлась.
На всякий случай, она все-таки еще раз решила вернуться в зал и посмотреть, не появился ли Алеша. Там, у входа в бар, находилась темная комнатка, куда очень любила ходить, как сказал Алеша, одна сотрудница с их радиостанции, так она оттягивалась после работы, но потом об этом узнало начальство, и ее со скандалом уволили. Маруся попыталась было тоже спуститься в эту комнатку, но стоявший у входа охранник преградил ей дорогу: «Вам, мадам, нельзя!» В конце концов, она расплатилась за выход и оказалась на улице одна среди ночи, в совершенно непонятном и неизвестном ей месте, у какого-то длинного бесконечного забора и небольших двухэтажных построек, в кармане с собой у нее было всего двести крон; куда идти, она не знала, поэтому надо было ловить машину, но хватит ли у нее денег на дорогу, она тоже понять не могла, однако другого выхода у нее не было. Она остановила первое же такси, назвала адрес, стараясь говорить исключительно по-французски и по-английски, учитывая те пожелания, которые ей высказал в ресторане ЕРС Опухтин в первый день ее пребывания в Праге. Во всяком случае, название нужной ей улицы шофер понял, и она была там буквально через пять минут, так как этот клуб оказался совсем недалеко, и это стоило ей всего пятьдесят крон, а если бы она знала, куда идти, то, наверное, могла бы добраться и пешком…
***
Как только Маруся прилетела в Мюнхен, она сразу же позвонила Луизе, Луиза теперь жила в Цюрихе, ее муж нашел там работу, все ее дети разъехались, и в Париже никого не осталось, поэтому свою квартиру там они теперь сдавали. Луиза сразу же изъявила желание встретиться с Марусей, так как она была родом из этих мест, они договорились встретиться на вокзале. Маруся не видела Луизу целых три года, но та совершенно не изменилась за это время, такая же бодрая, активная, деятельная, в брюках и с рюкзаком за плечами, так и ищет, что бы ей такое сделать, чем бы заняться, что бы интересное придумать. Луиза всегда очень любила карты, планы и путеводители, поэтому первым делом поинтересовалась у Маруси, успела ли она приобрести себе путеводитель по этой местности, когда же Маруся ответила ей отрицательно, Луиза сразу схватила ее под руку и потащила в ближайший книжный магазин. Там она разговорилась с хозяйкой, высокой холеной немкой лет пятидесяти, у немки на шее висел кулон, по которому Луиза сразу же определила ее принадлежность к какому-то тайному ордену, они тут же обнялись, расцеловались, как будто знали друг друга уже лет двадцать, по меньшей мере; потом Луиза рассказала хозяйке, что это ее русская подруга Маруся, и ей непременно нужен самый лучший путеводитель, хозяйка выбрала ей хороший и недорогой, после чего Луиза, совершенно удовлетворенная, распрощалась с хозяйкой магазина, дав ей напоследок свой адрес и пообещав наведаться еще.
Луиза предложила Марусе пообедать неподалеку в привокзальном ресторанчике, оттуда открывался прекрасный вид на озеро, а потом можно будет и по городу погулять, они сели за столик на улице, мрачный чернявый официант принес им меню, они стали выбирать. Луиза как раз посоветовала Марусе попробовать рыбу из этого озера, она говорила, что эта рыба очень вкусная, ее здесь любят, потом они стали выбирать десерт, а официант стоял рядом и молча ждал, пока они выберут. Луиза не обращала на него ровно никакого внимания, но Маруся заметила в нем какую-то особенную агрессивность и недовольство, к тому же, ей показалось, что в этот ранний час от него сильно пахнет спиртным, он был совершенно не похож ни на немца, ни на швейцарца, это явно был какой-то либо турок, либо албанец. Вдруг он резко выхватил меню из рук Луизы и сказал что-то злобное и грубое на своем непонятном языке, Луиза с удивлением посмотрела на Марусю:
— Что это с ним? Кажется, он пьян?
Маруся еще до этого обратила внимание на этого странного официанта, когда он убирал посуду с соседнего столика, он уронил и разбил бокал, а потом долго собирал осколки прямо руками, что-то злобно бормоча себе под нос и покачиваясь. Луиза с Марусей говорили по-французски, поэтому официант долго прислушивался к их разговору, но понять ничего не мог, и в конце концов, Луиза обратилась к официанту по-немецки:
— Простите пожалуйста, почему вы так агрессивны?
Может быть, вы позволите нам выбрать то, что мы хотим и не будете нас торопить?
Официант опять что-то злобно буркнул, потом по-немецки с сильным акцентом сказал:
— Выбирайте поскорее, я не могу ждать здесь вечность — и, покачиваясь, отошел в сторону, к другому столику.
Удивительно — Маруся впервые видела в ресторане, да еще не где-нибудь, а в Германии, такого официанта, с такими манерами, который явно хотел вызвать раздражение у посетителей ресторана.
Однако Луиза была настроена благодушно.
— Ты знаешь, наверное, он приехал из какой-нибудь страны, где женщины вообще лишены каких бы то ни было прав, и вот он видит, что две женщины, без мужчин, сидят в ресторане среди бела дня и беседуют, они никуда не торопятся, просто разговаривают, а для него это вообще необычно, настолько необычно, что он сразу же впадает в агрессию, ему хочется как-то указать на свою значимость, кроме того, он вынужден прислуживать этим женщинам, для него это вообще невыносимо. А в общем-то, это какой-нибудь бедный эмигрант, у него дома, наверняка, сидит несчастная забитая жена в окружении кучи детишек, а если ты позовешь хозяина, то его выгонят, и он останется без работы, тогда его жена и дети будут голодать. Разве тебе этого хотелось бы?
Маруся не успела ничего ответить, потому что как раз в этот момент официант принес им заказанные блюда — Марусе рыбу, а Луизе телятину, и даже не поставил, а почти швырнул тарелки на их столик. Луиза, не глядя на него, сухо сообщила Марусе:
— Ну что ж, тем хуже для него. Он останется без чаевых, вот и все.
Несмотря на злобного официанта, Луиза, которая очень любила карты и планы, вытащила огромную карту, которую привезла с собой, и показала Марусе уже заранее нарисованный ею маршрут.
Маруся вспомнила, как они с Луизой вместе ездили на Королевскую Охоту в замок Фонтенбло под Парижем — Маруся с Луизой бродили тогда по лесу и едва не заблудились, и тут Луиза достала из сумки огромную карту, которую она заранее прихватила с собой, бумажная карта была посажена на тканую основу: под нее Луиза аккуратно подклеила кусок холста. Эту карту Луиза расстелила на опавших листьях среди деревьев, и, встав на четвереньки, тут же стала внимательно анализировать, где же они с Марусей находятся, довольно скоро Луиза сориентировалась на местности и сообщила, куда нужно идти, чтобы найти выход из этого леса. Тогда же Луиза впервые показала Марусе красные ягоды с острыми темно-зелеными листьями, она сказала, что этими ягодами у них в Германии всегда украшали елки, и еще с детства она прекрасно помнила эти ярко-красные ягоды, они действительно были очень красивые, по-французски это называется «Houx», и Марусе, чтобы узнать знаение этого слова по-русски, пришлось лезть в словарь, оказалось, что это растение называлось «остролист».
Маруся всегда плохо ориентировалась в пространстве, например, однажды мама велела ей ждать ее у гостиницы моряков, она подробно описала эту гостиницу, ее полукруглый стеклянный фасад и ее местонахождение — недалеко от Главных ворот порта, они договорилась встретиться там в шесть часов, а Маруся, приехав к Главным воротам порта на трамвае, вышла и отправилась по трамвайным путям дальше, она дошла до канала, источавшего запахи тления, в котором плавали полусгнившие бревна, на другой стороне стояла почерневшая, до невозможности закопченная выхлопными газами проходящих мимо машин церковь с луковицеобразным куполом, на берегах, спускавшихся к каналу, валялось огромное количество мусора, и Марусе постепенно стало казаться, что она попала в какое-то странное место, нереальное, потусторонее, в какую-то зону; она уже забыла, зачем сюда приехала, она перешла по деревянному мостику на другую сторону канала и углубилась в узкие полутемные улицы, на темно-синем небе появилась круглая белая луна, здесь не было фонарей, темные кирпичные дома с ободранными фасадами и разбитыми окнами первых этажей, казалось, угрожающе наклонились и мешали ей пройти. Маруся в испуге ускорила шаг, побежала вперед, вперед, но этот район не кончался, фонари не появлялись, наконец ей в глаза бросился большой круглый циферблат висевших на углу улицы часов — было уже восемь часов вечера, и тут Маруся, резко завернув за угол, увидела нависавшую над ней огромную стеклянную полусферу — это и была гостиница моряков, однако мамы там не было, она уже давно ушла домой, так и не дождавшись Марусю. С Марусей часто случались такие заскоки, и мама тоже считала ее полной идиоткой, смотрела на нее с улыбкой и вообще не воспринимала всерьез.
Луиза происходила из старинного немецкого рода фон Мальбург, берущего свое начало от герцогов Мальборо, детство она провела в небольшом городке Альт-Эттинг в верхней Баварии на родине Людвига Баварского, где даже находилась часовня с серебряной урной с сердцем самого Людвига, мать Луизы еще в детстве рассказывала ей про этого замечательного короля. Дядя Луизы состоял в нацистской партии, и когда закончилась война, то матери Луизы пришлось срочно сжигать огромное количество пропагандистской литературы и множество экземпляров «Майн кампф», так что ни одного экземпляра у нее не осталось, а жаль, ведь теперь это считается раритетом и библиографической редкостью. Правда, мать Луизы не одобряла увлечений своего брата, она была женщина набожная и регулярно ходила в церковь, а политика ее интересовала мало.
Луиза считала, что замок Нейшванштейн — это лучший замок, построенный Людвигом Баварским, он стоит на скале над пропастью, рядом с водопадом, это просто дивной красоты зрелище. А вообще-то она говорила, что Людвиг был немного того, verruckt , и еще его тетка страдала приступами сумасшествия, Verrucktheit, ей все казалось, что она проглотила стеклянную софу, поэтому и у самого Людвига тоже были предпосылки к безумию, даже их семейный доктор, когда увидел маленького мальчика, сказал, что он, конечно же, красавец, и глаза у него прекрасные, но в этих глазах горит будущее Verrucktheit.
Людвиг на протяжении всей жизни совершал странные поступки, он часто отдавал приказы сжечь, четвертовать, повесить своих подчиненных за совершенно незначительные провинности, например, когда его министр финансов отказал ему в деньгах на постройку очередного замка, потому что денег в казне действительно не было, Людвиг приказал его колесовать, к счастью, он никогда не проверял, исполняются его приказы или нет, поэтому их исполняли очень редко. Людвиг постоянно ощущал недостаток средств, поэтому даже образовал из своих приближенных небольшую шайку, которая грабила банки Берлина, Штуттгарта и Мюнхена. Одно время Людвиг совершенно не переносил присутствия других людей, даже в театрах оперы игрались для него одного, а на банкетах столы сервировались таким образом, чтобы цветы и вазы с фруктами искусно скрывали лица всех присутствующих. Одному своему слуге Людвиг приказал постоянно носить маску, ибо не выносил его лица, а другому на лоб поставил черную печать, так как считал его чрезвычайно глупым и тупым человеком, и с этой печатью тот обязан был ходить всюду.
Последние годы жизни Людвиг провел в замке Берг на озере Штарнберг, ему очень нравился образ Лоэнгрина, и он катался в костюме Лоэнгрина по озеру в лодочке, однако вскоре ему захотелось быть ближе к звездам, тогда для него на крыше замка устроили резервуар с водой, и он плавал там, потом ему захотелось, чтобы вода была лазурная, тогда в воду пустили медный купорос, который, к несчастью, очень скоро проел металлический резервуар, и вся вода утекла в кабинет короля, находившийся под крышей. После чего воду стали подсинивать иным способом, но Людвиг попросил еще установить машину, которая имитировала бы волны, и так он плавал по лазурной воде, покачиваясь на волнах, правда, вскоре ему захотелось, чтобы волны были еще сильнее, еще, и в результате лодочка перевернулась, после чего Людвиг совершенно охладел к этой идее. Людвиг обожал путешествовать, часто эти путешествия он совершал, не выходя из замка, он спускался в подвал, садился в карету с завешенными окнами, карету плавно раскачивали, а слуга периодически громким голосом объявлял следующую остановку, таким образом Людвиг съездил во Францию, в Версаль, в Лондон, в Петербург и еще много куда…
Потом Людвиг вообще захотел жить вдали от людей, купить себе необитаемый остров и жить там совершенно свободным, не подчиняясь ни конституции, ни законам, для этой цели он разослал своих слуг в Крым, в Гималаи, в Африку, и еще бог знает куда, но желаемого так и не нашел, эта затея оказалась невыполнимой. Кроме того, Людвиг частенько обращался за финансовой помощью к французскому королю, взамен обещая ему поддержку в войне с Германией, если таковая случится. Людвиг ненавидел женщин, однажды он случайно, желая сделать сюрприз и продемонстрировать собранный им оркестр бродячих музыкантов, застал свою невесту Софию Баварскую в парке в обществе то ли грума, то ли аббата, правда, сама невеста уверяла, что это галлюцинация, optische Taushung, Людвига, однако их помолвка расстроилась, и уже никогда больше Людвиг не хотел жениться. Одна актриса, случайно присевшая к нему на постель во время декламации, была выдворена из Баварии в двадцать четыре часа, и въезд ей туда был навеки запрещен.
Поведение Людвига все сильнее и сильнее беспокоило Берлин, в результате, к нему в замок Шванштейн была прислана комиссия из четырех психиатров, которые постановили, что король тяжело и неизлечимо психически болен, и что его необходимо изолировать от общества. Узнав об этом, Людвиг пришел в такую ярость, что приказал тут же содрать с врачей живьем шкуру и бросить их в темницу. Психиатры тут же в ужасе бежали в Мюнхен, бросив в замке все свое имущество…
***
Маруся впервые встретила Руслана на дне рождения у Светки, который та решила отметить в арт-клубе на Фонтанке. В тот вечер Светка вырядилась в длинное темно-зеленое бархатное платье с глубоким вырезом, волосы окрасила в рыжий цвет, на шее — зеленое ожерелье. Она бросилась к Марусе с криком:
— Привет, подруга! Сколько лет, сколько зим! — хотя они с ней виделись буквально день назад в кабинете у Гоши.
Гоша тоже набросился на Светку и стал буквально душить ее в объятиях, обхватив ее шею своими длинными цепкими руками и положив голову ей на плечо. Потом Светка стала кружиться прямо на набережной, отчего ее длинное широкое платье красиво развевалось, и петь: «Беспокойная я, успокойте меня!». Гоша схватил ее под руку и потащил к входу в клуб, приговаривая:
— Пошли, пошли, Светочка, а то мы тебя уже давно ждем и порядком замерзли!
— Замерзли? Ну ничего, сейчас согреемся!
У входа в клуб их встретили здоровенные охранники в строгих костюмах с ничего не выражающими лицами, Светка молча достала свою клубную карту и энергично пихнула одному из них прямо в нос, отчего тот испуганно отшатнулся. Гоша и Маруся прошли вслед за ней в зал, где стояли сколоченные из досок деревянные столы с выцарапанными на них надписями, стены тоже были ободранные с толстыми выкрашенными в красный цвет трубами: клуб располагался в подвале, и все убранство его было стилизовано под подвал. Официант принес рюмки и бутылку водки, кроме этого Светка заказала большую тарелку с квашеной капустой, солеными огурцами и чесноком. Первый тост выпили за здоровье Светки, потом еще раз и еще, Светка, уже совершенно осоловевшая, положила голову на плечо Маруси и тихо пробормотала:
— А Васьки еще нет? Он обещал зайти.
Вася, действительно, вскоре появился в смокинге и с бабочкой, он сел за стол напротив Светки, она тут же стала просить его взять еще водки, тогда он заметил, мельком глянув на нее:
— Дорогая, а тебе не хватит? Ты и так уже, кажется, порядком перебрала. А я сегодня уезжаю в Москву, так что я, вообще-то, ненадолго.
Светка напомнила ему, что он обещал заплатить за вечер, ведь у нее же сегодня день рождения, но Вася ответил, что наличных денег с собой у него нет, только кредитная карта, а здесь карты не принимают. Тут сидевший рядом с Марусей Гоша тихо пробормотал:
— Ну, блядь, я этого и ожидал. Теперь они скажут — раскошеливайтесь, дорогие гости, каждый платит за себя.
Но к счастью, Вася с некоторой заминкой все же достал из кармана бумажник и сообщил, что какое-то количество наличности у него с собой имеется, так что пусть Светка расслабится, он за все заплатит.
В это мгновение к их столу и подошел Руслан, он тогда еще все слышал и как раз собирался в Америку на тот злополучный фестиваль, бороды у него тогда еще тоже не было. Хотя Маруся на него особо не смотрела, она запомнила тост, который он тогда произнес. Руслан почему-то вспомнил мультфильм по басне Михалкова про бобра, который говорил:
— Теперь мы все проникнуться должны здоровым недоверием друг к другу.
Вот за это «здоровое недоверие друг к другу» Руслан и предложил тогда выпить. Потом он говорил Марусе, что и в тот вечер у него уже очень сильно болела голова, но Маруся тогда ничего не заметила.
***
Николай предложил Марусе хореографа для «Колдовского озера», о котором ему много рассказывала Манана. Манана два раза в неделю приходила убирать комнату Николая, она танцевала в Мариинском театре и параллельно занималась в театре-студии, которой и руководил этот «замечательный хореограф, исповедовавший совершенно новые принципы танца».
Студия находилась неподалеку от Технологического института — в том же районе, где жили Родион Петрович и Ванечка — в доме, весь первый этаж которого занимал психореабилитационный центр. Маруся и Николай даже подумали сначала, что ошиблись адресом, тем более, что дверь нужной им квартиры на втором этаже, где, вроде бы, должна была располагаться студия, была вся увешана табличками с именами живущих в этой квартире жильцов.
Они уже хотели уходить, но Маруся в последний момент заметила, что на одной из этих табличек все-таки было написано «Николай Иванович Кречетов. Театр свободных движений „Змея“. Три звонка».
Двери им открыла Манана, видимо, она их уже ждала, так как время встречи было оговорено заранее. Она сразу провела их в просторную комнату, в центре которой стоял телевизор с видеомагнитофоном, Маруся и Николай сели на диван, через приоткрытую дверь Маруся заметила, как в противоположном конце длинного коридора, вероятно, на кухне, толпились люди и по очереди мешали в огромном котле какое-то варево с неприятным запахом. Манана сказала, что Николай Иванович сейчас подойдет, а пока они могут посмотреть некоторые их записи. Она включила телевизор, и на экране появился молодой человек в тренировочном костюме, который вращал головой, руками, поднимал вверх ноги, в общем, делал движения, напоминавшие те, что обычно делают спортсмены во время разминки, однако он все это проделывал под звуки «Апассионаты» Бетховена; постепенно движения юноши становились все более энергичными и хаотичными, наконец он перекувырнулся через голову, распластавшись по полу на спине, и начал биться в конвульсиях, как в эпилептическом припадке… В это мгновение в комнату вошел коренастый сутулый мужик с тщательно зачесанными на лысеющий затылок редкими волосами, он был в обвисших на коленях трениках, домашних тапках на босу ногу и светлом шерстяном свитере с обрезанными рукавами, из-под которого торчала не заправленная в треники рубашка.
— Какая замечательная нечеловеческая музыка! — сказал он, обращаясь к Марусе и Николаю, вместо приветствия,- Да, какие все-таки чудеса могут творить люди!
Николай Иванович сам тоже верил в безграничные возможности человека, поэтому и создал свой театр, «театр свободных движений». Вот они, Маруся и Николай, наверное, немного растерялись, когда подошли к их двери, так как не знали, куда позвонить, он это предположил, потому что такое уже случалось со многими его знакомыми, а все их волнения были совершенно напрасны, так как они могли смело звонить в любой звонок любое количество раз, потому что все, буквально все жители этой огромной коммунальной квартиры теперь являются членами его студии и занимаются хореографией под его руководством, вне зависимости от пола и возраста, так что самой юной его ученице теперь было всего семь месяцев, а самой пожилой — аж восемьдесят девять лет, при этом надо учесть, что сам Николай Иванович въехал в эту квартиру всего год назад. Правда, был один сосед, завзятый алкоголик, который отказался вступить в его студию, но сейчас он здесь практически не живет, так как остальные жильцы устроили ему настоящий бойкот, и ему пришлось переехать к дочери. Но это даже к лучшему, потому что они освободили его комнату от мебели и устроили там небольшой танцевальный зал, где и проводились эти съемки — Николай Иванович указал рукой на экран телевизора, на котором тем временем появились уже несколько человек, мужчин и женщин в тренировочных костюмах, некоторые из них еще, вроде как, «разминались», а кое-кто уже катался по полу и бился в конвульсиях; предыдущий номер назывался «Влюбленный мальчик», а этот — «Танго»… С экрана, действительно, доносилась музыка Пьяццолы, которую Маруся хорошо знала, так как Руслан тоже часто использовал ее в своих сочинениях.
Кречетов уже был в курсе того, что ему предлагали делать, Манана ему уже все рассказала, в общем, он не против, так как обожает музыку Вагнера и Чайковского, но как профессионал он должен еще поподробнее ознакомиться с либретто и, желательно, поговорить с руководителем проекта, обсудить кое-какие детали, к тому же, ему нужно посмотреть, как у него со временем, так как в последние полгода ему приходится работать в очень жестком графике из-за огромного количества заявок и предложений на выступления их театра. Последнее такое предложение он получил от Андрюса Лиепы, который приглашал его в Москву в Большой Театр, и он сначала, было, согласился, но после того, как увидел по телевизору один балетный номер, поставленный Лиепой, так возмутился, что решил отказаться. Все дело в том, что Лиепа тоже был у него в гостях и сидел вот здесь, на диване, как Маруся с Николаем, просматривая кассеты с записями его театра, а потом он по телевизору увидел, что Лиепа буквально его обворовал, так как использовал в своей постановке все его движения, которые он здесь подсмотрел. Николай Иванович был так возмущен, что сначала даже хотел подать на Лиепу в суд, но потом передумал, так как доказать факт воровства в суде очень трудно, потому что судьи, как правило, ничего не понимают в балете…
Столь пристальное внимание окружающих к своему творчеству Николай Иванович объяснял тем, что за последние два столетия классический танец превратился в орудие порабощения, сковывающее природные способности человека, не случайно ведь француз Петипа нашел себе приют в монархической России, где балет был сразу же взят на вооружение деспотической властью, а уж о расцвете балета при коммунистах и говорить нечего. Но зато теперь, когда на голову людей свалилось так много свободы, именно его подход к танцу наиболее актуален, так как суть этого подхода заключается в том, что хореограф должен полностью самоустраниться, предоставив танцовщику полную свободу самовыражения, позволяя ему раскрепоститься и выразить в танце все, что у него накопилось на душе, а накопилось у наших сограждан к настоящему моменту не мало, так как многие из них долгое время, особенно в застойные годы, чувствовали себя очень скованными. Теперь же, когда на них неожиданно обрушилась свобода, вся эта энергия прорвалась наружу и бьет не то, что ключом, а как настоящий фонтан, точнее даже, как нефть из свежей, только что пробуровленной скважины; поэтому он сам иногда чувствует себя даже этаким первопроходцем, геологом, натолкнувшимся на колоссальное месторождение, таящее в себе запас колоссальной энергии, готовой прорваться наружу в любой момент, в любом месте, в том числе и прямо тут, из почвы у него под ногами, стоит только туда ткнуть палкой. И как показывает пример их небольшой артистической коммуны, это действительно так, но, в отличие от политики и экономики, где сейчас царит полный беспредел, он относится к открывшемуся ему богатству, являющемуся общественным достоянием, с колоссальной ответственностью, так как просто не может иначе, потому что так велит ему его совесть и долг художника.
Вот эта свобода самовыражения исполнителей и делает каждый спектакль его театра общественно значимым явлением, потому что в каждой своей постановке он стремится достичь максимально обобщенной символической выразительности, схватить самое главное, самую суть происходящего вокруг, иными словами, поведать зрителям о времени и о себе.
— Ну надо сказать, это вам очень хорошо удается! — вдруг сказал Николай, который, как заметила Маруся, на протяжении всей речи Кречетова сидел, откинувшись на спинку дивана, как бы впав в прострацию, и только блаженная улыбка все больше растягивала его и без того огромный рот. Это ее нисколько не удивило, так как перед самым приходом сюда, у подъезда дома Николай сделал несколько жадных затяжек «Беломором», который, как правило, он всегда носил с собой «заряженным». Теперь же он весь встрепенулся и глазами выразительно показал Марусе на экран, где уже в два раза большее количество людей в тренировочных костюмах, настоящая толпа, извивались, корчились, катались по полу, прыгали, бились в конвульсиях, на сей раз под музыку Шопена. Люди, действительно, были разных возрастов, правда, подавляющее большинство из них— женщины. Маруся заметила, как одна из них, уже довольно пожилая, присев на пол и пропустив руки между ног, ловко скакала, как лягушка. Николай Иванович, заметив, что они смотрят на экран, удовлетворенно произнес:
— Да, это «Вальс», одна из лучших наших композиций, — и тут же попросил Манану немного убавить звук, чтобы гости не отвлекались.
Конечно он мог предоставить Марусе и Николаю необходимых исполнителей для спектакля, тем более, девушек, которых в его театре было гораздо больше, чем молодых людей, но если речь идет всего лишь о каких-то пяти человеках, то тут и говорить не о чем, любого пола и возраста, на любой вкус, ведь в его труппе в настоящий момент насчитывается, если он не ошибается, уже четыреста семьдесят девять человек, не считая его самого, Мананы и еще трех его ближайших помощников. Хотя он и не совсем понимал, зачем это нужно, зачем лишний раз отвлекать людей, когда под его руководством любой из членов Академии после двух-трех репетиций с легкостью справится с любой, самой сложной балетной партией, так что эту проблему можно было уже считать решенной. Столь огромные размеры труппы объяснялись тем, что у него, в отличие от других театров, у желающих выступать на сцене не спрашивали никаких дипломов и удостоверений, так как от них не требовалось никакой предварительной подготовки, достаточно было сделать вступительный взнос, чисто символический, всего пятьсот рублей — все остальное он брал на себя.
Кроме того, люди тянулись к нему еще и потому, что свою теорию балетного искусства он строил не на пустом месте, а на строго научной основе, главным образом, на трудах своего деда, врача, который очень много занимался целебным воздействием движений на человека — его дед был автором фундаментального исследования на эту тему, долгие годы пылившегося у него в столе и опубликованного только в самом начале перестройки, уже после его смерти. Эта книга сейчас уже стала библиографической редкостью, а называлась она: «Хочешь жить — умей вертеться!» — нет, Маруся и Николай напрасно смеются, безусловно, у его деда с юмором было все в порядке, только в данном случае он вовсе не шутил. Всем известно, например, что полезно петь в хоре, или что игра на духовых инструментах развивает легкие, а вот о полезности движений, и особенно движений под музыку, до его деда еще никто никогда не задумывался. Однако его дед был практик, врач, поэтому его подход к этой теме был еще очень узким, и его книга носит сугубо прикладной характер, он же сам подходит к движениям гораздо, гораздо шире.
Помнят ли они, к примеру, самое начало Библии, первую фразу: «В начале было слово»,- а ведь в греческом оригинале, на самом деле, было сказано: «В начале был логос«,- а логос это ведь не только слово, но еще и действие, то есть движение. И вот из-за этой небольшой неточности в переводе от огромного числа людей, практически от всего человечества, ускользнула самая сущность мира, то, что лежит в основе всего, любой вещи, любого растения, любого живого существа, то, с чего все началось, продолжает начинаться и будет начинаться вечно, этим же все всегда заканчивалось, заканчивается и будет заканчиваться, и это, по его глубочайшему убеждению, было ничем иным, как движением. В этом он не сомневался ни на секунду, это было для него совершенно очевидно, так как он пришел к этому заключению не только под влиянием идей своего деда, но и после собственных многолетних размышлений и наблюдений над окружающим миром. Видели ли, к примеру, Маруся и Николай когда-нибудь, как умирает человек, его последние мгновения, ну хотя бы в кино? А он видел, причем не только в кино, но и в жизни, целых несколько раз, когда умирал его дед, например, но это не важно, а важно, что в это мгновение умирающий человек совершает вот такое движение — Николай Иванович высунул язык, закатил глаза, откинул голову на плечо и на какое-то мгновение замолчал — так вот, он не сомневался, что в этом последнем движении человека заключался весь его жизненный путь, причем целиком, включая самые мельчайшие мысли и переживания. Так что если это движение, например, заснять на пленку, а потом внести в компьютер и разбить на мельчайшие составляющие, то по ним можно будет потом восстановить всю жизнь человека с мельчайшими подробностями, и даже потом, попозже, когда прогресс достигнет такой стадии, по этому движению можно будет человека воскресить, так как оно содержит в себе всю информацию о человеке.
И вообще, в каждом человеке есть такое движение, которое полностью определяет его сущность, и из которого он, собственно, полностью и возник, правда, далеко не каждый способен разглядеть это движение не только в другом, но и в себе самом, зато он овладел этим искусством в совершенстве, это, собственно, и лежит в основе его методики обучения танцу — помочь ученику понять свое основополагающее движение и предоставить ему полную свободу самовыражения, основанную на постепенном развитии и усовершенствовании этого самого первоначального движения.
Если Маруся и Николай не возражают, то он мог бы прямо сейчас продемонстрировать им те движения, которые составляют их сущность, но он сразу должен их предупредить, что это может быть для них очень неприятно и даже болезненно, и у него было уже несколько очень неприятных историй, когда его гости после того, как он демонстрировал им, по их же просьбе, их главное движение, уходили от него, внешне не подавая никакого вида, но, видимо, так на него обидевшись, что после уже никогда ему не звонили. Николай был не против, поэтому Николай Иванович, вдруг сразу же как-то неестественно изогнувшись всем телом и жеманно поднеся руку к губам, послал куда-то вдаль воздушный поцелуй — это и была сущность Николая. Сущность Маруси заключалась в том, что Николай Иванович одной рукой как бы поднес к лицу невидимое зеркальце, а другой стал поправлять прическу, пудриться и всячески прихорашиваться… Николай захихикал, но Николай Иванович почему-то заявил, что тот обиделся, и он это прекрасно видит, хотя тот и пытается это скрыть, но они так не договаривались, потому что он их предупредил, к тому же, истина, которая им сегодня открылась, в дальнейшем им очень пригодится, и они еще не раз его вспомнят добрым словом. А чтобы они не обижались, в знак особого расположения к ним, он даже готов был продемонстрировать им самый главный Источник движения, который у всех людей расположен в одном месте, в отличие от самого основополагающего движения, которое у каждого свое и глубоко индивидуально. Николай опять встрепенулся:
— Да, что вы говорите, это было бы просто чудесно, это было бы так мило с вашей стороны, мы были бы вам очень признательны!
Однако Николай Иванович вдруг передумал, помрачнел и заявил, что, все-таки, он этого делать не будет, при всем его уважении к Николаю и к Марусе, на самом деле, он просто не может этого сделать, и пусть они его даже не просят, так как он просто в случайном порыве обмолвился на эту тему, которой вообще не собирался касаться.
— Ну что же вы, не стесняйтесь, здесь все свои, — не унимался Николай.
Нет, нет и нет, тем более в присутствии дамы, так как у него уже были очень крупные неприятности, когда в прошлом году на пресс-конференции, состоявшейся после фестиваля современного танца, который ежегодно проводится во дворце культуры «Красный Октябрь» на Петроградской, он уступил настойчивым просьбам журналистов и продемонстрировал им этот источник, после чего, вместо благодарности, те же самые люди, которые только что просили и умоляли его об этом, в самой грубой и бесцеремонной форме выставили его вон, еще и пригрозив сдать в милицию за оскорбление общественной нравственности, после этого он поклялся в присутствии посторонних больше никогда этого не делать. А тогда он просто очень устал после выступления их театра, к тому же пресс-конференция, из-за того, что фестиваль затянулся, началась тоже очень поздно, уже было начало двенадцатого, а ему еще надо было добираться домой до Техноложки на метро, и так как стол для положенного в таких случаях фуршета был уже в соседней комнате накрыт, он попросил организаторов, чтобы ему налили несколько рюмок до того, а не после, как обычно, и ему, разумеется, пошли навстречу, это тоже, видимо, сыграло свою роль в том, что он повел себя так неосмотрительно и поддался на уговоры. Но очевидно, это ему был дан определенный знак Свыше, то есть указано, что тайна должна быть исключительно достоянием посвященных, потому что другие все равно не смогут ее должным образом воспринять. Вот если они хотят стать полноправными членами его студии, а для этого им необходимо всего лишь заплатить вступительный взнос, тогда на занятиях, в рабочей обстановке, он им все наглядно продемонстрирует и покажет, что он обычно и делает на своих занятиях, а пока он может им разве что подарить свою книгу, фундаментальное исследование свободных движений, где тоже все подробно описано и объяснено, только при помощи слов. И вообще, он больше даже не желал об этом говорить, потому что врагов и недоброжелателей у него и без того хватает. Например, после их недавнего концерта в Эрмитаже, к нему предъявили претензии цыгане, которые обвинили его в плагиате и в том, что он, якобы, позаимствовал у них истину, которую они донесли до наших дней из Древнего Египта, кроме того, у него были проблемы с Мальтиийским орденом и орденом Тамплиеров… В это мгновение Николай, действительно, весь как-то напрягся, и блаженная улыбка, которая только что блуждала по его лицу, вдруг куда-то исчезла. Маруся заметила это, потому что при упоминании тамплиеров она невольно посмотрела на Николая, так как он ей рассказывал, что во время своего пребывания в Германии принял тайное посвящение в этот орден, причем рассказывая об этом, Николай буквально умолял ее никому об этом не говорить, он уверял ее, что, если это кому-нибудь станет известно, то его даже могут убить, что, впрочем, не мешало ему писать на афишах своих концертов свое имя не иначе как Николай Свирский фон Гинденбург, то есть использовать имя, вроде бы, данное ему при посвящении…
Между тем, Николай Иванович почему-то именно в это мгновение вдруг заявил, что он очень рад, что Николай и Маруся на него не обижаются и восприняли его откровения мужественно и с достоинством, теперь он это ясно видит, впрочем, другого от них он и не ожидал, так как с первого взгляда сумел оценить масштаб их личностей, что, впрочем, ему удавалось сделать еще во многих, очень многих случаях по одному-двум жестам человека, причем не только в отношении своих близких знакомых и современников, но и в отношении людей, отдаленных от него как в пространстве, так и во времени.
Например, он без особого труда способен определить масштаб личности Ленина, которого он как-то невольно, можно даже сказать, в шутку процитировал в самом начале этой беседы в связи с «Апассионатой», так вот, основным жестом Ленина был, разумеется, вот такой жест — тут Николай Иванович встал в характерную позу и вытянул вперед руку — ибо именно так Ленин запечатлен в большинстве скульптур советского времени, и именно благодаря этому жесту, жесту-удочке, Ленину, как ловцу человеческих душ, и удалось поймать в свои сети такое количество людей и подчинить себе целые народы.
А вот руки Александра III на известной скульптуре Трубецкого, напротив, опущены вниз, что и предопределило его гибель, в отличие от того же Медного всадника, изображающего Петра I. Те же движения, предвещающие грядущую гибель и крах империи в огромном количестве присутствуют в старых кинохрониках, запечатлевших Николая II. А вот Богдан Титомир с этим своим движением — тут Николай Иванович сделал несколько резких выпадов руками, как обычно делают рэпперы при исполнении своих песен — так вот, Богдан Титомир сначала на него не произвел вообще никакого впечатления, так как ему показалось, что он просто старается всех окружающих убедить в том, что он такой крутой, а на самом деле таковым не является, но постепенно Титомиру все-таки удалось стать крутым, потому что он все время делал так — Николай Иванович опять сделал несколько характерных движений — и в конце концов, достиг своей цели, чего никак нельзя сказать, например, о Валерии Леонтьеве, потому что, когда он поет про дождь или про солнце, то ему совершенно не веришь, единственная песня, которая показалась Николаю Ивановичу убедительной у Леонтьева, была песня про «светофор зеленый», тот самый который был «в жизнь влюбленный», и там еще «все бегут-бегут-бегут-бегут, а он им светит, все бегут-бегут-бегут-бегут, а он горит…» — этой песне он почему-то верил, а в остальном Леонтьев был абсолютно бездарен, хотя в работоспособности ему отказать нельзя. Зато Алле Пугачевой он верил во всем, каждой ее песне, каждому ее слову, и «сколько раз спасала я тебя», и «жил-был художник один», и «разлук так много на земле и разных судеб», и «позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи», и » а я в воду войду, ду-ду-ду-ду-ду«, да всего и не перечислишь…
По дороге домой, уже сидя в метро, Маруся достала из сумки маленькую зеленую брошюрку, которую перед самым уходом всучил ей Николай Иванович — «Евангелие от Кречетова. Десять заповедей свободного танца». В брошюре было всего сорок три страницы, из них пятнадцать занимала вступительная статья. От нечего делать, просто, чтобы убить время, Маруся стала ее перелистывать. Начиналась статья с рассуждения о том, что современный балет после Витгенштейна и Бежара уже невозможно воспринимать так, как его воспринимали в прошлом веке, потому что в нем сложилась революционная ситуация, когда зрители уже не в состоянии воспринимать банальную строгость движений классического танца, танцовщики же, напротив, выходя на сцену порой оказываются столь сильно зачарованы магической темнотой зала, таинственными колыханиями, случайными, непредсказуемыми жестами и движениями зрителей, что им становится все труднее и даже как-то неловко чувствовать себя в центре внимания, и они сами понемногу, постепенно превращаются в зрителей, очарованных магией обычных человеческих движений и жестов, которые с такой точностью и с таким гениальным чутьем и удалось почувствовать замечательному новатору современного балета Николаю Кречетову, что он и продемонстрировал в одной из своих самых смелых постановок последних лет, в которой зрительный зал и сцена как бы поменялись местами. Нужно было видеть, как немногочисленные зрители в лице всего каких-то трех-четырех человек, вход для которых в театр был, кстати, совершенно бесплатным, уже давно разместились на освещенной яркими прожекторами сцене, в то время как огромная труппа Кречетова из более чем четырехсот человек выстроилась в длинную очередь в кассу за билетами, сгорая от нетерпения, чтобы попасть в зал… Этой своей постановкой Кречетов с математической точностью доказал и продемонстрировал кризисное состояние не только современного балета, но и всего искусства в целом, так как в зале, подобном темной платоновской пещере, куда, вроде бы, только что вошли актеры, опять оказались все те же прикованные к своим креслам зрители, которые так и не смогли увидеть настоящих людей, скрытых за кулисами, а снова увидели только их тени-маски на сцене, отсюда видно, что обычные люди, сидящие в зале, подобны черепахе, которая едва ползет по миру, однако стремительно меняющий свои обличья художник за все прошедшие века и тысячелетия, подобно Ахиллу, так и не сумел приблизиться к черепахе ни на шаг… Жаль только, что этот революционный спектакль прошел не замеченным широкой публикой, главным образом, это объяснялось практически полным отсутствием на представлении посторонних, так как три-четыре человека, сидевшие на сцене, не в счет, потому что они были близкими друзьями самого режиссера, а также автора этой статьи. Завершалась же статья напоминанием о том, что змея всегда была символом мудрости на Востоке, потому что она мыслит всем телом, в отличие от Европы, где люди больше привыкли мыслить головой, то есть змея мыслит не только передней, но и задней частью своего тела, той самой, о которой столь пренебрежительно привык отзываться зашедший в тупик европеец — автор сознательно сам подчеркивал это в своей статье, дабы предупредить возможные колкости в свой адрес. В заключение театр «Змея», в лице его руководителя Николая Кречетова, сравнивался с библейским змием-искусителем, который на сей раз был призван искусить уже Нового Адама, дабы тот снова обрел свою утраченную телесность. Статью написал Тарас Загорулько-Шмеерсон, «завлит театра-студии свободных движений „Змея“».
***
Болт внешне чем-то отдаленно напоминал Торопыгина, тоже весь заросший волосами и бородой, только чуть повыше ростом — его Маруся случайно встретила в Манеже, где он стоял перед огромным полотном, выполненном в строгой реалистической манере с лесом и медведями, как у Шишкина, это была его картина, которая называлась «Возвращение Сезанна». Она тогда по неосторожности дала ему свою карточку, и с тех пор Болт звонил ей не реже одного раза в неделю, но это еще было ничего, потому что сначала он звонил ей каждый день, а порой и по два-три раза на день. Иногда, правда, звонки были совсем короткие, потому что он очень спешил, и поэтому он только хотел ей сообщить, чтобы она срочно одевалась и шла покупать газету «Вести», в интервью которой его жена Татьяна рассказывала о том, как двадцать восемь американских галерей сражаются за картину одного питерского художника, или же Маруся должна была купить газету «Известия», где уже его сын Леонид опубликовал свое школьное сочинение «Петербург в творчестве русских писателей», или же еще что-нибудь в этом роде, а спешил он потому, что ему самому надо было еще успеть обойти все ближайшие киоски, в каждом из которых, как правило, оказывалось не больше шести экземпляров одной газеты, поэтому, чтобы приобрести хотя бы шестьдесят газет, ему приходилось обходить, по меньшей мере, десять киосков, на большее у него не хватало ни сил, ни времени, ведь надо было еще купить шестьдесят конвертов и разослать газеты всем своим знакомым…
Сначала Маруся вообще перестала подходить к телефону, но это был не выход, поэтому постепенно она научилась отвечать измененным голосом, зажав нос рукой, что ее нет дома. Но в последнее время, к счастью, Болт звонил не так часто. На самом деле, Болта звали Борис, а слово БОЛТ было составлено из первых букв имен членов его семьи: Борис, Олег, Леонид и Татьяна,- то есть, его, жены и двух его сыновей, семнадцати и девятнадцати лет, которые, собственно, и являлись единым творческим коллективом БОЛТ. Поэтому это слово правильно было произносить, не склоняя, но многие все равно называли его Болтом, из-за того что они этого не знали и думали, будто его так прозвали просто потому, что он много болтает, и он уже к этому даже привык и на них за это не обижался. Творческое объединение «БОЛТ» уже успело создать более тысячи живописных полотен, гравюр, чеканки и резьбы по дереву, а также выпустить в свет триста двадцать три книги стихов и прозы, к настоящему моменту картины БОЛТ находились в собрании восьмидесяти пяти галерей мира, включая музей Гуггенхайма в США и галерею Тейт в Англии.
На Болта произвело большое впечатление интервью, которое дала Маруся в Праге Европейской радиостанции, так как он эту радиостанцию очень любил и слушал ее с самого детства, он не терял надежды, что Маруся может устроить так, чтобы и у него там тоже взяли интервью, или даже она сама сделает про него передачу, но Маруся все откладывала это важное дело на потом, ссылаясь на занятость, поэтому, видимо, постепенно Болт и стал ей звонить все реже и реже.
В последний раз он позвонил ей, потому что был очень возмущен тем, что его выкинули из серии «Классики девяностых», он этого совершенно не ожидал и особенно не ожидал этого от Торопыгина, к которому до сих пор относился с большим уважением. Теперь же Торопыгин тоже оказался в числе тех, кого Болт называл не иначе, как «крутые карлики», к числу которых к этому моменту уже было причислено все руководство питерского и московского ПЕН-клубов, петербургский Союз Художников в полном составе, Комитет по культуре мэрии, комитеты по культуре и геополитике Государственной Думы, не считая членов Политбюро и ЦК КПСС, а так же членов Союза советских писателей и художников, с этими у него вообще были особые счеты, так как, хотя ему было уже за шестьдесят, по-настоящему развернуться, вздохнуть полной грудью, он смог только в последние десять лет, после августа девяносто первого.
И теперь его, в сущности, не очень волновало, что его выкинули из «Карликов девяностых» — а эту серию он отныне будет называть только так — просто ему было обидно из принципа, но что поделаешь, совки, они как были совками, так и остались. Но это только раньше они что хотели, то и делали, а другие должны были ходить по струнке и не чирикать, а теперь он тоже что хотел, то и делал, и никто ему указывать ничего не мог. Как бы ему все ни завидовали и ни старались его задвинуть, он все равно теперь был у них как бельмо на глазу, особенно перед лицом Запада, где его талант уже сейчас оценили по достоинству.
А эту книгу, которая должна была выйти в серии, он уже и сам сдал в типографию, и думал, что ста экземпляров вполне хватит, ему, вообще-то, предлагали напечатать и больше, по себестоимости, каждый экземпляр обошелся бы ему тогда всего в двадцать рублей, это совсем недорого, но зачем ему так много, он ведь, в первую очередь, книги издавал для читателей, так что фактически это издание было не за его счет, а за счет читателей, потому что читатели его книги покупают очень активно. Он брал в сумку сразу пятьдесят экземпляров, шел на Невский и продавал там свои книги, и они у него буквально разлетались, за два часа — половина тиража. Ведь и Достоевский книги за свой счет издавал, и Лев Толстой, и Цветаева тоже — они с издателями заключали такой договор, что им в долг типографии печатали их книги, а потом уже они с ними рассчитывались.
А все эти наши «крутые карлики» считают, что они и есть литература, что они под себя всю литературу, в частности, и культуру, в целом, уже подмяли. Все, что он написал, он уже издал, осталось только шесть стихов, но он думал, что и эти шесть стихов в ближайшее время тоже издаст, правда, хотелось бы хорошее издание, можно даже в коже, хотя это и дорого, но тут уж получается чистое вложение денег. Его книги читателями востребованы, и это самое главное, а на остальное ему плевать.
Вот есть у нас такая организация — ПЕНЬ-клуб — так вот в этом клубе собрались такие крутые карлики, что он дал ихнему директору, уж забыл, как его, свою книгу про яйцеголовых, даже четыре книги дал, а он — ни ответа, ни привета. Он что, нанялся ему книги свои даром давать? Их читатели вон как покупают, просто хватают, отбою нет, а он ему даром — и никакой реакции, как будто так и надо…
***
Маруся, действительно, на обороте одной из книг Болта, где обычно помещаются отзывы об авторе, видела напечатанную типографским шрифтом надпись: «Это одна из лучших книг, какие я когда-либо читал в жизни!» — и подпись: «Иосиф Бродский, Пятая Авеню».
Свои произведения Болт как-то всучил ей, когда она случайно натолкнулась на него на Невском, на мостике через канал Грибоедова, где он стоял с огромной торбой на животе, какие были у русских коробейников на лубочных картинках. Все книги, которые он ей дал, представляли собой крошечные брошюрки от двадцати до тридцати страниц максимум. Помимо отзывов, вроде того, что сделал Бродский, которые в огромном количестве были размещены на оборотах всех изданий, в одном из них она еще обнаружила длинный перечень лиц, которым автор выражал свою признательность, среди них были: машинистка, которая сделала пятнадцать опечаток, редактор, который обнаружил из них только семь, корректор, который не обнаружил вообще ничего, директор типографии, который, помимо заранее оговоренной суммы, получил от Болта бутылку «Смирновской», а также пофамильный перечень его соседей по коммунальной квартире, которые настучали на него в ФСБ…
Примерно в это время, когда Болт по угасающей стал звонить ей все реже и реже — видимо, его надежда попасть на любимую радиостанцию почти угасла — Маруся как раз собиралась делать передачу про Руслана и его Академию, в связи с чем тот показывал ей некоторые из своих архивных и наиболее важных для него видеозаписей. На одной из них Руслан тоже, вроде бы, беседовал с Бродским — эту пленку он считал одной из самых уникальных и важных, и периодически устраивал ее просмотр почти на всех своих юбилейных премьерах.
Правда, было не совсем понятно, обращается Бродский прямо к Руслану, или куда-то мимо него, потому что Руслан стоял немножко сбоку, рядом с Бродским, — тогда он еще все хорошо слышал и не носил бороды, — и вместе в кадре они находились не более трех минут, но, видимо, все-таки, Бродский обращался к Руслану. Он с большим энтузиазмом описывал свои впечатления от «Реквиема» Бриттена, какие там замечательные литавры и: «Обратили ли вы внимание на вступление ко второй части, где звуки как бы уплывают в небеса?«,- Руслан же стоял рядом с ним, слегка кивая головой и улыбаясь. На этой старой пленке он был как-то очень похож на Васю, когда тот в своей передаче «Му-му» беседовал с Филиппом Киркоровым и другими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Маруся тогда случайно обмолвилась Руслану про Болта: какую она видела на выставке картину с соснами, как у Шишкина, и некоторые забавные факты, которые она от него слышала. Все это неожиданно очень заинтересовало Руслана, и через некоторое время он вдруг сказал Марусе, что, пожалуй, не стоит делать передачу про его Академию Мировой Музыки, а лучше посвятить ее этому замечательному художнику, который в своем творчестве наконец-то решил противопоставить себя всему современному насквозь прогнившему авангардизму с его тупым размазыванием красок по холстам и отважился создать нечто осмысленное, глубокое и реалистическое. Сам Руслан был готов выступить в этой передаче не столько в качестве известного композитора, сколько в качестве эксперта, специалиста по современной культуре в целом, тем более что после того, как он оглох, его поневоле стали очень интересовать визуальные виды искусств, особенно живопись, нынешнее состояние которой, по его мнению, мало чем отличалось от того, в котором находилась теперь музыка.
Маруся сначала отказывалась, так как это совсем не входило в ее планы, однако Руслан упорно настаивал на своем: он уверял, что передача получится замечательная, он уже вел в свое время на молодежном радио передачи о классической музыке и давно хотел высказаться по поводу состояния современной живописи, но ему все никак не представлялся для этого удобный случай, и теперь они просто не могли упустить такой шанс. К тому же, как считал Руслан, в Праге совершенно все равно, о ком Маруся сделает передачу, так как там, скорее всего, в равной мере не знают ни Академию Мировой Музыки, ни Болта, хотя, конечно, он, Руслан, был известен и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Берлине… И это, действительно, было так, потому что Маруся, на самом деле, чуть ли не каждый день видела у Руслана корреспондентов иностранных газет и журналов, которые приходили брать у него интервью, более того, ему периодически звонил из Москвы министр культуры, чтобы справиться о его здоровье или просто передать привет — об этом ему сразу же докладывал его пресс-секретарь — такие звонки раздавались примерно раз в неделю и, как правило, всегда в присутствии иностранных корреспондентов, но в Праге, возможно, о нем и вправду никто ничего не знал, не считая, конечно, Алешу Закревского, у которого с Русланом было очень много общих знакомых, включая и Васю. Но Алеша работал там исключительно по ночам и вряд ли обсуждал с коллегами состояние современного искусства, к тому же передачу о «каком-нибудь ярком явлении петербургской культуры» ей заказал не он, а жирный мудак: эта передача ему срочно понадобилась для цикла «Рассекая волны», который курировал Владимир,- они-то уж точно про Руслана ничего не слышали, а про Болта тем более…
В конечном итоге, Руслан Марусю уговорил, и в конце концов, ей было наплевать, главное для нее в данном случае было заработать бабки, а за двадцатиминутную передачу в то время на ЕРС платили двести долларов.
***
Болта было решено пригласить в Большой концертный зал Академии Мировой Музыки. Он, конечно, немного удивился, когда поднимался наверх по грязной лестнице без перил, где даже днем почти ничего не видно — студию звукозаписи Европейской Радиостанции он все-таки представлял себе несколько иначе, но ничего, ему в своей жизни и не такое приходилось видеть, например, на Пряжке, куда он носил передачи Бродскому и Аронзону… Аронзон вообще был нормальный, настоящий поэт, а все кругом считали его сумасшедшим, и Торопыгин тоже был когда-то нормальный настоящий поэт, а не только умел хорошо играть в шашки, поэтому он и доверил ему свою рукопись, а тот его взял и подставил…
Все это Болт сразу же стал излагать Марусе, едва переступив порог Академии, где она его уже ждала вместе с Русланом. Роль второго, кроме Руслана Никаноровича, эксперта-искусствоведа должен был исполнить Светик, но Святослав Александрович, как всегда, задерживались.
Чтобы не терять времени, Маруся сразу же усадила Болта в наиболее тихий и далекий от окна угол и включила диктофон, поставив его на стол перед Болтом. Руслан сел рядом: «Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста, Борис Христофорович, о состоянии современной культуры», — громко сказал он. Потом Маруся несколько раз выходила покурить, а Руслан все это время сидел рядом с Болтом, как бы внимательно его слушая, правда, на него он совсем не смотрел, и его взгляд был задумчиво устремлен в направлении окна.
Плохая живопись плохо действует на зрителей, это в Америке уже всем известно, а до нас пока что не дошло. Ведь от картин наших так называемых мастеров даже Натан повесился, был такой коллекционер… Пока Болт в Америку не поехал, он цену своим картинам вообще не знал. Вот Маруся и Руслан, к примеру, знают, как была создана знаменитая коллекция Доджа? Просто Доджу нравились темные углы, все такое ободранное, и он покупал у всех этих художников по пять картин, заплатив за каждую по тридцать или по пятьдесят долларов — в зависимости от настроения — и так создал коллекцию Доджа, вся эта живопись обошлась ему недорого, во всяком случае, дешевле, чем обычная мясорубка, они там в ресторанах обычно пятьдесят долларов на чай дают, вот он и дал на чай нашим художникам. У нас первый приобретатель такого рода картин был Ричард Пайпс, советник президента Рейгана, а уж потом все они бросились вслед за ним — видят, что недорого, а деньги ведь надо на что-то тратить, уж лучше на произведения искусства, чем на мясорубки…
Вообще-то, не только у нас сейчас такая ситуация, в Америке все примерно то же самое. Главный редактор «Нью-Йоркера» — вообще человек сомнительной репутации, вроде нашего Василия Аксенова, а как только их репутация приобретает сомнительный характер, они все там сразу становятся коммунистами. Когда Аксенов сюда приезжал, он так сомнительно выглядел, непонятно, кому он теперь нужен: все его почитатели спились, свихнулись и поют песни, — а ведь Аксенов в три раза уже превысил все написанное Гоголем, но Аксенова вряд ли кто теперь будет читать, это Болт точно знал, уж можно ему поверить. А вообще, у него самого вышло уже триста двадцать три книги, он, как только книгу напишет, сразу же ее издает, а потом продает, и на эти деньги сам живет и свою жену Татьяну и двух сыновей, Олега и Леонида, кормит.
У него, кстати, скоро еще и выставка открывается в «Манеже», точнее, там будет выставлена одна его картина. Там, в «Манеже», можно будет также посмотреть на Кибирова, у него есть театральный бинокль, так что можно будет на него посмотреть со второго этажа, потому что его картина размещается на втором этаже, а Кибиров на первом будет там у входа свои стихи читать. Это только сейчас у него одна картина будет, а буквально две недели назад у него была целая выставка, где было, наверное, картин пятнадцать, не меньше.
Его картины, к тому же, благотворно воздействуют на людей, они ими лечатся, люди от его картин заряжаются энергией, одна дама так этой энергии насосалась, что в обморок прямо там грохнулась, с тех пор к картинам вообще не подходит, а охранники по ночам впускали посетителей, брали по пятьдесят рублей за вход, неплохо, кстати, заработали, но ему самому ничего не дали. Куда там! Он об этом в последнюю очередь узнал, у него сосед там работает, он и рассказал.
Недавно он получил факс из Америки — женщина забеременела от созерцания его картин, и кстати, у нее хороший дом в Портленде, там можно жить, муж у нее телезвезда, не наша, конечно, а американская, и вот у них долго не было детей, и теперь наконец-то она забеременела. А на прошлой выставке в Манеже две дамы-смотрительницы так возбудились от созерцания его живописи, что набросились на него и хотели изнасиловать, причем дамы весьма пожилые, даже, можно сказать, преклонного возраста, потом об этом во всех газетах написали, с заголовками «Художник стал объектом сексуального домогательства посетительниц выставки», на самом деле, это не посетительницы на него набросились, а смотрительницы, но журналисты вечно все переврут.
Скоро он опять выпустит книгу — «День святого Похуярия» называется — объем всего двенадцать страниц, но люди его книги покупают и получается кругооборот, кругооборот книг в народе. Недавно тут вышло интервью с ним в газете «Большой город», а в газете «На обочине» что-то нехорошее про него написали, и в «Вестях» тоже скоро обещали написать, так что надо бороться дальше…
Вот он тут на выставке в Манеже сидел у своих картин, подошли к нему люди и сказали, что хотят купить его картину за сто долларов, ну что ж, он не отказался, а деньги эти запустит в производство книги, и его жена Татьяна будет довольна, она тут приболела, плохо себя чувствует, а как только появятся сто долларов, здоровье у нее сразу подскочит, женщина ведь это хищник, она охотится.
Путин тут недавно тоже ему дал грант, он у него еще в девяносто первом приобрел книгу, и с тех пор является его поклонником. А тут еще в двенадцать ночи из издательства «Жираф» ему звонил главный редактор, весь взъерошенный, и просил у него рукопись этой книги, срочно хочет издать. Ну помощник президента США по национальной безопасности, какой-то там Ричард Пайпс — это, что называется, хрен с ним — а тут уж, как говорится, настало время сугубо личных контактов и авантюризма. Он разбрасывает золото своих мыслей налево и направо, как Писарро, а те, кто понимает, подбирают, не ждут, сразу же раз — и схватили.
Он раньше писал рукописные плакаты — что будет с Россией в ближайшие десять лет и вешал их на ворота, а люди подходили и читали, какой-то немец тогда привез сюда ксерокс-машины, и они начали его плакаты размножать, к нему даже приходила милиция и требовала, чтобы он сорвал эти бумаги, а потом Белла Куркова указ Ельцина размножила на этих машинах, и все сразу так закрутилось… Они ведь тогда сидели: он — на Антоненко три, а Путин — напротив, на Антоненко шесть,- и все приходили и покупали у него книгу «Мусор и Совок», и Путин тоже пришел к нему и купил его книгу. А тем временем вышел в одном журнале памфлет, где прямо излагались все его основные мысли, то есть они просто взяли и передрали их у него, он им позвонил, а они ему говорят: «Мы тут магнитофонных записей ваших разговоров не ведем, и если и формулируем их, то в другой редакции, так что претензий никаких быть не может». Ну а он им сказал — в следующий раз, когда они будут его цитировать, то пусть позвонят и согласуют, желательно письменно.
Ну так вот, Путин дал грант этому издательству «Жираф», которое его будет издавать, так и получается, что он дал грант ему.
Его вообще интересует, как жизнь развивается, во всем, прежде всего, нужна активность, он тут написал письмо Вознесенскому — не от себя, а от лица секретаря, естественно, о том, что нужно читателей знакомить с настоящими шедеврами двадцатого века, а не просто с макулатурой, но тот что-то заглох, и ему из ПЕН-клуба ни ответа, ни привета. Это ведь не железобетонная арка — ПЕН — туда надо идти в полный рост, а если там у старых маразматиков начнется кровавый понос, они от этого психуют и лезут на стенку, то тем лучше, туда им, как говорится, и дорога! Всех их, и в первую очередь Грибова, Пересадова, Лукницкого, Шиндлера, Санина, Чурилли и Панайотти надо бы подвесить за яйца и бить хуем по лбу, точнее, Пересадова, Грибова, Лукницкого, Шиндлера, Санина и Панайотти надо подвесить за яйца и бить хуем по лбу, а Чурилли надо подвесить за задницу и бить по пизде мешалкой, так будет правильнее…
В Манеже ему, в силу его своеобразного дарования и бойкого характера, отвели пол-стола, там как раз книжная ярмарка проходила, и он выложил все свои книги на этот стол, и сидит, и тут к нему подходит Михаил Шемякин, а у него почему-то именно в такие моменты случаются провалы в памяти, то есть, он знал, кто это, но совершенно забыл его имя, поэтому и спросил его об этом, а он ему ответил, ну тут он сразу все вспомнил. Потом он пошел в секцию ПЕН-клуба, там стол стоял где-то семь-восемь метров длиной, и они тоже выложили свои книги на этот стол, это его так разозлило, что он принес свои книги — у него стопка оказалась на пять сантиметров выше, чем все, что они издали вместе взятое. Панайотти, тот вообще сразу начал жевать мочало, а он им говорит: «Меня поражает, что вы мои книги не читаете, мои английские издатели поставили меня в очередь только за одним писателем — за Федором Михайловичем — а вы мои книги не читаете! Почему, интересно?» Тут к нему и подскочил некто Калабашкин, матерый проходимец, а у остальных физиономии повытягивались — оно и понятно, ведь на них все плюют, гранты им не дают, в Израиль их не приглашают, а ему и гранты дают, и в Израиле он недавно пробыл два месяца, так его там просто на руках носили, и он плевал на них, он, как пират, ворвался в их это затхлое болото, он же мхатовской школы актер, так что он и сказал им с выражением: «Почему же вы мои книги не читаете? Вы же повысите свою культуру, это для вас шанс! А вы им не пользуетесь!»
Сегодня он продал двадцать книг, и сразу получил двести рублей, отвез человеку делать макет, и пошел, купил себе еды и пива, и жене купил пива. Ну конечно, а что он может сделать? Он должен двигаться вперед, на месте стоять ему нельзя. Вообще-то, с путинским грантом это история долгая, от них можно огрести где-то от тридцати двух до сорока тысяч, а с книгами все проще, тут не надо ничего, только расписаться — и все, готово! Его друга недавно перевели из Америки в Канаду, это компания Finnair дает им бесплатные билеты, он ставит на свою книгу их компанию, и они сразу ему дают билеты. А если он ставит Галерею Французских Вин, то получает французское вино, и пьет его, а если презерватив, то презерватив, у нас ведь так — хуй поставишь, хуй и получишь, и так везде, и у нас, и в Америке, если, конечно, вдуматься, а не хлопать ушами, как эти мудаки из ПЕНЬ-клуба. Агенство Недвижимости поставит — получит деньги. А что он может сделать, он так вынужден поступать, за счет этого он и издает свои книги.
А кто еще сумеет раскрутить Finnair?! Гергиев, разве что?.. Благодаря ему, эта компания гордо называет себя перевозчиком Мариинского театра, можете себе представить — Мариинский театр с его многочисленными традициями, и Болт, это вам не ПЕНЬ-клуб, это Болт, они не являются явлениями русской культуры, а Мариинский театр и Болт — являются, неважно, что он чеченец, этот Гергиев, он тоже явление русской культуры, причем монументальное!
А возьмите, к примеру, писателя Кирилла Пересадова, он бы его назвал — Перезадов, потому что это культура задворок и помойных бачков, это представляет интерес только для этнографа, который дикими племенами занимается, его, кстати, все время путают с другим Пересадовым, вот того еще можно читать, а этого можно читать только под наркозом или в одиночной камере, это не духоподъемное чтение. Ему тут жена Пересадова как-то сказала, что русская эмиграция в Нью-Йорке сделала все, чтобы ее Кирюша с Иосифом ни за что не встретились, а когда они все-таки встретились, то сразу поняли друг друга, потому что они, включая еще и Довлатова, «настоящие мальчики с Невского проспекта», вот так, такие гиперболы теперь в ходу, она бы еще сюда Сранина приплела, Довлатов, наверное, в гробу переворачивается…
Нет, лично он таких мальчиков, как Перезадов и Сранин, в гробу в белых тапочках видал, потому что ему Бродский всего за год до смерти говорил, что Пересадов — это мудак, каких мало, о Сранине они с ним, естественно, не говорили, потому что Иосиф и имен таких не знал.
Он тут недавно интервью о Бродском для радио давал, так вот выяснилось- ему потом журналист, который с ним беседовал, это сказал — что он о Бродском говорит такие вещи, какие про себя только тот сам говорил, и все, только он и Бродский, больше никто! Потому что он Бродского здесь в Ленинграде с семнадцати лет знал, когда он еще тут чалился, и он был человек очень непростой и очень скрытный…
А Станислав Станиславский, который всю жизнь жил за счет Бродского, был его секретарем, потому что тот его за собой в Америку вытащил, поселил его у себя, кормил и поил, так вот Станиславский теперь говорит, что ему стихи Бродского совсем не нравятся, и сам Бродский ему что-то разонравился, конечно, если всю жизнь за чужой счет жить, то потом тот, кто тебя кормил и полностью содержал, естественно, не понравится. А Бродский ему еще и грант на эту антологию в десяти томах достал, где его, Болта, ранняя поэма тоже опубликована, точнее, маленькая ее часть, посвященная Малевичу — «Пророческие сны гения» называется — а если учесть, что во всем мире сейчас такого уровня публикаций, посвященых Малевичу, имеется всего девятнадцать, то значимость этой публикации трудно переоценить, не для него, для Малевича, естественно!..
Бродский, кстати, эту самую книгу, которую Торопыгин теперь запорол, у него больше всего ценил, а Довлатов тогда даже сам ему позвонил и просто так взял ее и отредактировал, вот так! Но теперь он ее все равно еще раз издаст, а они пусть отдыхают, это ее уже седьмое издание будет, потому что нужно бороться, книги издавать!
Вот сейчас, к примеру, очень стихи хорошо идут, он это по себе знает, он на компьютере свои стихи набирает и издает, и вот недавно одна женщина — ей семьдесят лет — схватила его книгу и говорит: «Это стихи? Я хочу ими наслаждаться!» А он ей отвечает: «Платите десять рублей и наслаждайтесь, сколько влезет!» Он несколько дней продавал на этой выставке свои стихи, они шли очень хорошо, ну разве что книга о Довлатове с ними могла конкурировать, а так, в основном, все стихи требуют, это теперь предпочтительней всего, хотя они и самые дорогие — книжечка небольшая, а стоит десять рублей! Ну, конечно, сначала почитают, посмотрят, а потом уж платят деньги, так что если не ебать муму, то можно очень даже неплохо заработать, ведь вот смотрите, его читатели уже в президенты метят — а что, если бы он в свое время не дал Путину книгу, он бы просто о его существовании никогда не узнал.
А стихи сейчас пойдут очень хорошо — людей после чеченской войны обязательно на стихи потянет, главным образом, из-за дефицита, дефицита информации, которой человек мог бы верить, ведь человек не верит в групповую информацию, он верит только своему опыту, который запечатлевается в стихах, кроме того, если бы он не издал свои книги, он бы многого, наверное, сейчас не знал, а так ему приходит информация от читателей, они ведь, как собаки-ищейки, проникают во все каверны бытия, поэтому он самый информированный на планете человек, можно сказать, у него сотни тысяч читателей — это очень много, потому что он от каждого тиража хотя бы десять книг отправляет в библиотеки, в основном западные, так как там качественный уровень читателя значительно выше, вот и получается, что каждую его книгу в год читает не меньше нескольких тысяч человек, то есть при минимальном вложении — максимальный тираж, какой только в наше время можно себе представить. К тому же, пусть уж лучше американские налогоплательщики оплачивают из своего кармана дополнительные мощности работы наших типографских станков, ведь каждую из десяти книг, которые он отправляет туда в библиотеки, должны прочитывать в год не менее тысячи человек, что уже умножало его тираж до десяти тысяч, а в течение десяти лет это уже должно составить сто тысяч, теперь, если учесть, что каждая книга его первоначального тиража стоила ему двадцать рублей, а значит, весь тираж обошелся ему в две тысячи рублей, и эти две тысячи поделить на сто тысяч, то теперь Руслан и Маруся сами могут посчитать, во сколько ему реально обошлась каждая его книга, в какие-то тысячные доли копейки, а еще через десять лет эта сумма еще на порядок станет меньше, то есть практически она стремится к нулю, поэтому он и говорит, что издает книги за счет читателей…
Некоторые читатели даже лезут на него драться и говорят: «Вам надо ехать на Запад! Вам здесь делать нечего!» А куда ему ехать, в Калград, что ли? В Калград он не собирается переезжать, там очень мрачно, там одни рабочие кварталы, там два миллиона жителей было раньше, а теперь уж и неизвестно. Санкт-Петербург тоже, конечно, загажен собаками, но может быть, его очистят? Все же лучше, чем Калград, во всяком случае…
Читатели сформулировали ему хорошую идею — Россия, безусловно, погибнет и останется только как литературный памятник, как культурный памятник, как предупреждение Западу — это существенный факт, а сами писатели народу не нужны — это несущественная иллюзия. В то же время Гомер сколько навербовал людей? И как ему это удалось! А ведь огромное количество людей его читало и до сих пор читает. Вот он как-то ехал на юг кушать фрукты, лежит на полке и читает «Илиаду», и так: тук-тук-тук, — колеса стучат, а он лежит и «Илиаду» Гомера почитывает, Гомеру повезло, хоть он и слепой был, но написал так, что его аж в двадцатом веке читают.
Он вообще ничего не скрывает, он человек открытый, поэтому у него каждый раз какие-нибудь события происходят. Пришел он тут опять в Манеж, поставил стул, на стул положил свои книги, а сверху —портфолио, девяносто процентов людей вообще не знают, что такое портфолио, так вот у него оно занимает четыреста страниц, и они листают его два часа, а потом выходят, пошатываясь от восторга. Еще бы, он и сам бы от такого зашатался! Только вот измельчал теперь народ, в биографии на полстраницы и то писать нечего. Его сосед по коммуналке две недели не мог анкету на работу составить, тыкал, тыкал ручкой: да-нет, да-нет,- пока бумагу не испортил.
У директора Манежа два спонсора — чай «Липтон» и газета «На обочине» — лучше не могла найти, потому что все эти «обочинцы», как только его видят, разбегаются, кто куда, настолько сильно их впечатляет его творчество, потому что они, как люди убогие, не могут все правильно понять и должным образом осмыслить.
Но скоро, скоро там эта выставка закрывается и будет всеобщий засос — все будут пить водку и целоваться друг с другом, все эти «черненькие», волосенковцы, которые создают свои стаи, как собаки, группируются друг с другом и бегают, высунув язык,- все будут собираться в кучу и фотографироваться на общую фотографию, в общем все, как обычно.
А у них с Татьяной сразу же новая выставка откроется в банке «Невский» — это беспредметное дело, но зато будет банкет и пьянка, на первом этаже спаивают журналистов, а они с руководством банка уединятся в отдельном помещении — так уж у нас с советских времен повелось, есть мероприятия для всех, а есть — для избранных — и там, в этом отдельном кабинете, уже столько блюд будет, что можно запросто человек двести накормить, причем до полного удовлетворения, а их там будет человек двадцать от силы, не больше. В прошлый раз, помнится, охранник так насосался, что свалился под стол, не смог вынести…
Теперь он хотел издать книгу «Записки из-под Поля Берда», она по-русски написана, он же только по-русски пишет. Поль Берд — это место, где они с женой жили в Париже, основная часть повести там происходит, он там все время работал, ездил все время из конца в конец, а жил только в старом Париже, правда, однажды его сослали в Пантин — это пригород, им там было очень тоскливо, зато в Париже он имел свой отдельный шандебон, работал на этом шандебонне, писал картины и складывал, люди, их соседи по шандебону, предлагали им пить с ними кофе, но он всегда отказывался, а пролетариат там очень гордый, эти шандебонщики, потому что потом, когда к нему стали приходить покупатели и предлагать по двести долларов за картину, эти шандебонщики даже с ним здороваться перестали, и вообще — спиной поворачивались. Жили они на третьем этаже — лестница витая, ковровая дорожка, деревянные ступени, краник холодной воды в коридоре, туалет тоже в коридоре. А вот на рю Сен Марк они уже жили в двухэтажной мансарде, там они тоже все время были заняты работой.
Но в Париж он больше не хочет, он хотел бы еще раз съездить в Америку — там другие возможности. И здесь тоже, правда, — другие возможности, но уже совсем в другом смысле, здесь теперь воцарилась такая душная, мещанская атмосфера, что даже думать об этом противно, поэтому и Бродский сюда возвращаться не захотел, да и Довлатов бы тоже не вернулся.
Одному местному крутому карлику он через секретаря послал письмо, чтобы тот организовал ему вечер в ПЕН-клубе, надо же поднимать культуру, а то ее уровень совсем стал примитивный, опростились все, хуже Льва Толстого, только пахать не хотят, культурная миссия Санкт-Петербурга в России окончательно провалилась, можно даже так сказать, собачье гуано по всем улицам валяется — а люди обвиняют в этом кремлевскую администрацию, но они же не гадят у нас, кремлевская администрация, они в трубу свою гадят, какая бы ни была кремлевская администрация, она не может своими экскрементами загадить все площади большого города, а между тем, именно этой кремлевской администрацией постоянно возмущаются посетители выставки в «Манеже». И во что в результате превратилась там книга отзывов, даже сказать страшно, он тут ее полистал и нашел там такое, просто волосы дыбом, например, один жизнерадостный гомик там написал, что жаждет, чтобы его оттрахали — вот во что превратилась книга отзывов, а что делать…
Болт говорил без остановки в течение полутора часов, так что за него Маруся была спокойна, вопросы ему она потом могла записать отдельно, в более спокойной обстановке. Все, что хотел сказать Руслан по поводу бессмысленных размазанных пятен краски на холстах авангардистов и пагубного влияния Казимира Малевича и Василия Кандинского на современную живопись, она тоже уже записала, на всякий случай она даже сама записала фразу, которую обычно в конце каждой передачи этого цикла говорил Владимир: «Рассекая волны, но совсем не качаясь, корабль современности медленно уходит вдаль«,- оставалось дождаться только Светика, но он в тот день так и не пришел, поэтому его Марусе потом пришлось записывать отдельно.
***
Помимо Светика, Руслана, Болта и Маруси в передачу, по настоянию все того же Руслана, Маруся включила отрывок из своего интервью с писателем Э., который посетил Москву и Петербург год назад, и с которым Маруся тогда действительно встречалась по просьбе редактора отдела культуры московской газеты «Универсум», где она тогда печаталась. В Москве вокруг Э. был такой ажиотаж, что в библиотеке, где он выступал, слушатели в давке даже выломали двери, отчего ни один корреспондент этой газеты к нему так и не сумел пробиться, к тому же никто из них, в отличие от Маруси, не знал ни итальянского, ни французского. Примерно в такой же атмосфере, как и в Москве, проходило выступление Э. и в Петербурге, только здесь его забравшиеся на подоконники почитатели выдавили несколько стекол, хорошо еще, что никто не вывалился из окна библиотеки на Фонтанке на улицу, в общем, обошлось без жертв, если не считать нескольких человек, которые во время выступления своего кумира потеряли сознание от июньской духоты и давки. Тем не менее, Маруся сумела связаться с переводчицей Э., и уже через нее договориться с ним о встрече на следующий день после его выступления.
В десять часов утра Э. ждал ее в баре гостиницы «Астория», где он тогда остановился. Он оказался примерно таким, как она себе его и представляла: приземистый, плотный, в очках и с бородой, как и положено писателю или профессору,- он сразу же спросил Марусю, не хочет ли она чашечку кофе, Маруся радостно закивала.
— Ну тогда можете себе его купить, — сказал он, — я уже позавтракал.
Чашечка кофе в баре «Астории» стоила двадцать долларов, а у Маруси было с собой денег ровно столько, чтобы доехать обратно на метро, поэтому кофе ей сразу как-то расхотелось.
Э. начал с того, что предупредил Марусю, что у них очень мало времени, всего полчаса, так как ему еще много надо успеть, потому что сегодня ночью у него самолет, на котором, кстати, ему было очень неприятно сюда лететь, так как он чувствовал себя там крайне дискомфортно и все потому, что там работают такие идиоты, что подают в самолете горошек, который совершенно невозможно в тех условиях поймать вилкой и ножом, он все время с них сваливается…
Вообще, проблема человеческой глупости в последнее время его очень занимала, так как, прежде чем прилететь в Россию на самолете, он совершал путешествие к себе домой, в Италию, из Норвегии через Малайзию — что Маруся не очень хорошо себе представляла — но, тем не менее, в отеле в Малайзии ему предоставили номер люкс, потому что других номеров, подешевле, не оказалось, и вот там был всего один холодильник, забитый прохладительными напитками и шоколадками, а холодильник был нужен ему для огромного лосося, которого он вез с собой из Норвегии, так как там он стоил гораздо дешевле, чем в Италии. В результате Э. вытащил все из холодильника и сложил в ящик стола, а на освободившееся место воодрузил лосося.
Каково же было его удивление, когда он, вернувшись вечером, обнаружил, что лосось лежит на столе, а холодильник снова наполнен напитками и шоколадками, Э. опять освободил холодильник, и запихнул туда лосося, но на следующий день повторилось то же самое. Так продолжалось все четыре дня, пока он там жил, причем не существовало никакой возможности объясниться с персоналом, потому что даже по-английски никто из прислуги там не говорил. Хотя иногда ему казалось, что он отчетливо слышит в коридоре, за дверью своего номера, английскую речь, но всякий раз, когда он подкрадывался к двери и стремительно ее распахивал, он обнаруживал там только все тех же азиатов, работавших в отеле, которые по-английски не понимали ни слова. Так что, наверное, у него от переживаний уже начинались галлюцинации, которые бывают у путников в пустыне от жажды, только им мерещатся оазисы с фонтанами воды, а ему слышалась знакомая речь от тоски по элементарному человеческому интеллекту и сметливости.
В довершение всего, перед отъездом Э. предъявили астрономический счет за все, что он, якобы, съел и выпил в течение четырех дней, когда методично опустошал холодильник, к тому же ему пришлось оставить там еще и лосося, так как он, в конце концов, испортился. Причем этот счет, целиком и полностью, он был вынужден оплатить, потому что, когда он попросил адвоката, ему принесли авокадо, то есть красивый блестящий зеленый плод, по форме напоминающий грушу, вот этот плод с тех пор и стал для него своеобразным символом человеческой глупости вообще, и тупости тамошней прислуги в частности. До такой степени, что он теперь этот плод не то, что есть, он на него теперь даже смотреть спокойно не мог без внутренней улыбки…
Закончив этот рассказ, Э. посмотрел на часы и стремительно поднялся из-за стола, давая понять, что все, время беседы истекло. В результате, Маруся только еще успела его пригласить на тот самый вечерний концерт в рамках фестиваля, посвященного жертвам Холокоста, который, по случайному стечению обстоятельств, совпал со временем пребывания Э. в Петербурге — об этом ее настоятельно просил Руслан.
— Нет, нет, — сказал Э., — у меня сегодня ночью самолет, а должен вам признаться, я очень устал.
После этого Марусе пришлось срочно идти в Публичную библиотеку и искать французские журналы с интервью с Э., где он хоть что-то говорил о литературе, по этим журналам она кое-как и составила свое интервью с ним, которое потом отправила в Москву.
И вот теперь Руслан стал спрашивать у Маруси, не сохранилось ли у нее магнитофонной записи этой последней фразы Э., которую она тогда ему дословно передала и которая теперь Руслану была непременно нужна для передачи. Никаких записей у Маруси, конечно же, не сохранилось, тогда Руслан сказал, что, в сущности, это не так важно, они попросят доцента их Академии Волкова все это сказать за Э., так как тот неплохо знал французский, и у него, к тому же, был хорошо поставленный, очень радиогеничный низкий баритон, все равно голос Э. должен звучать как бы в отдалении по-французски, а в это время Маруся будет озвучивать перевод — так они и сделали.
Правда, в исполнении Волкова ответ Э. стал чуточку более развернутым, теперь на предложение Маруси посетить организованный Академией Мировой Музыки концерт, посвященный жертвам Холокоста, Э. отвечал:
— Нет, нет, у меня сегодня ночью самолет, да и, по правде говоря, я немного устал от всех этих бесконечных муссирований темы, значимость которой мне кажется все-таки чересчур преувеличенной.
В целом, передача получилась впечатляющая, с традиционными для Руслана музыкальными заставками из Вагнера и Карла Орфа, из бесконечных рассказов Болта были выбраны куски минут на семь-восемь, где он особенно упирал на засилье в современной культуре карликов и еще про коллекцию Доджа… После того, как передача вышла в эфир, Марусе почти сразу же позвонил Самуил Гердт — он был в полном восторге, оказывается, он тоже всю жизнь ненавидел авангард, просто не находил слов, чтобы выразить это свое чувство.
***
В «Универсуме» платили регулярно, правда, не очень много и деньги приходилось долго ждать, потому что их переводили Марусе на счет, к тому же теперь ее статьи стали появляться там все реже и реже, последняя, про Роальда Штама, так и не была опубликована. Позже она узнала, что Сеня уже несколько раз громко возмущался тем, что Маруся пишет исключительно о гомосексуалистах, она просто задвинулась на этой теме, и с ней опасно иметь дело. У Сени, племянника Самуила Гердта и непосредственного начальника Маруси, как потом выяснилось, был настоящий пункт на этот счет, хотя у него, вроде бы, были жена и двое детей, он почему-то жутко боялся, что окружающие о нем подумают что-то не то. Маруся потом вспомнила, что и Торопыгин ей как-то раз, между делом, зачем-то многозначительно намекнул, будто Сеня является главой всей московской гомосексуальной мафии, Маруся тогда не придала этому никакого значения и подумала, что это просто шутка… Но все это выяснилось несколько позже, потому что прямо ей, естественно, никто ничего не говорил, просто печатали ее все реже и реже.
А после того, как Маруся, с подачи Руслана, написала небольшую «возмущенную» заметку, выдержанную в традициях советской журналистики, о гастролях в Мариинском театре английского балета DV8, в спектаклях которого были задействованы исключительно мужчины, а женщины присутствовали только в виде резиновых кукол из секс-шопа — заметка называлась «Пока в „69“ оттягивались, в Мариинке отклонились» — с Сеней, как ей передали, и вовсе случилась настоящая истерика, он даже пошел и пожаловался на нее главному редактору, и тот созвал по этому поводу небольшое собрание редакторов разных отделов. Незадолго до того из газеты уже был неожиданно уволен еще и некий Липовский и тоже, вроде бы, за совсем безобидное интервью с переводчиком Берроуза, Липовского тогда обвинили в пропаганде наркотиков, а Марусю теперь — в пропаганде гомосексуализма.
Правда, за Марусю, кажется, вступился редактор отдела культуры Дмитрий Глотов, который сам тоже, вроде бы, переводил Жене, но его голоса оказалось недостаточно. Глотов был с Сеней в ссоре из-за того, что, во время какой-то пьянки, Сеня случайно проткнул ему вилкой ухо, и оно воспалилось. Глотов раньше служил военным переводчиком в Анголе, и в редакции у него напротив стола даже висела страшная магическая картина, которую он привез с собой из Африки, отчего все кругом говорили, что он поклоняется культу вуду. Маруся встречалась в Париже с одной селинисткой, которая тоже долго жила в Африке, она уверяла, что сама участвовала там в нескольких церемониях воскрешения покойников, правда, в подробности она не вдавалась, просто твердила, что это очень плохо действует на психику и лучше об этом даже не вспоминать…
А тут еще в газете «Резонанс», где Марусе были должны больше тысячи долларов, вдруг неожиданно сменили название. Точнее, оказалось, что название сменили уже чуть ли не месяц назад, просто на висевшую над аркой перед входом в газету вывеску добавили одно слово — «новый — причем написанное мелкими буквами, отчего его почти никто и не заметил, и газета теперь стала называться «Новый Резонанс». Это новое слово, на которое тоже почти никто не обратил внимания, также незаметно появилось и в названии на первой полосе самой газеты, при этом логотип и дизайн остались прежними.
И только через месяц вдруг как-то неожиданно выяснилось, что старая газета, занимавшая целый подъезд в шестиэтажном здании и со штатом около ста человек, включая редакторов, наборщиков, корректоров и журналистов, не считая множества внештатных сотрудников, больше не существует, а «Новый Резонанс» — это уже совсем другая газета, нежели та, с которой все эти люди сотрудничали много лет, так как у нее сменилось не только название, но и владелец, форма собственности и еще много чего другого, хотя внешне не только логотип, но и все прежнее руководство, сотрудники отдела кадров и бухгалтерии остались прежними. И поэтому «Новый Резонанс» теперь больше никому ничего не должен, и свои долги желающие могут получить в старом «Резонансе», который теперь перебрался куда-то на Петроградскую сторону, правда, для этого они должны будут предварительно уволиться из этой газеты и перейти на работу туда. А кроме копившегося годами долга своим сотрудникам, у редакции газеты, как Маруся слышала, были еще и огромные задолженности перед налоговой инспекцией, Управлением городским имуществом и типографией…
Вообще, всем сотрудникам сразу же дали понять, что, если они хотят сохранить свою работу, то лучше им этот вопрос о долгах и вовсе не поднимать, тем более, что руководство новой газеты взяло на себя обязательство постепенно компенсировать долги всем, кто не бросит свою газету в столь трудный час, хотя, вроде бы, этого никто теперь там делать и не обязан, просто это жест доброй воли со стороны начальства к своим подчиненным, и лично со стороны Ольги Китоновой, главного редактора газеты, которая все это и изложила на общем собрании коллектива, созванном только теперь, примерно через месяц после случившихся перемен, о которых до этого момента большинство даже не подозревало.
И возвращение долгов было вовсе не пустым обещанием, более того, у Китоновой по этим долгам даже имелся вполне реальный план, с которым все подчиненные были тоже тут же ознакомлены. Отныне все ставки и гонорары в «Новом Резонансе» уменьшались в два раза по сравнению с прежними, однако это не должно было никого пугать, так как, на самом деле, все будут получать столько же, сколько получали раньше, до переименования, так как разница будет им компенсироваться в виде ежемесячных премиальных, которыми и будут потихоньку возмещаться все накопившиеся за последние годы долги по зарплате, а как только эти долги будут возмещены, размеры гонораров тут же будут восстановлены до прежнего уровня, а необходимость в этих компенсационных премиях-пожертвованиях со стороны администрации отпадет сама собой, так что никто ничего даже не заметит, никаких изменений и особых перемен, поэтому и поводов волноваться, в сущности, ни у кого быть не должно, разве что бухгалтерии придется немного поднапрячься, так как расчеты по долгам с уменьшением и восстановлением ставок будут проводиться сугубо индивидуально, и может даже получиться так, что уже сотрудник окажется должен газете, если ему вовремя не успеют отменить премию и восстановить ставку, но все эти мелкие неурядицы, если таковые и возникнут, потом можно будет без труда утрясти, ведь, в конце концов, коллектив газеты — это одна дружная семья, и все проблемы здесь всегда привыкли решать сообща…
Покончив с этой, самой сложной для понимания, частью своей речи, Китонова вздохнула с явным облегчением, она как будто скинула со своих плеч какую-то тяжесть, и дальше уже ее речь полилась гораздо свободнее и раскованнее. Она, в частности, очень не рекомендовала присутствовавшим на собрании особо обольщаться на счет старого «Резонанса», где, по идее, им тоже должны были бы вернуть долги, только уже не в виде благотворительности, а просто по закону, так как формально получалось, что тот «Резонанс» им теперь все и был должен. Но Китонова сразу же честно предупреждала их, что там их всех может постичь очень серьезное разочарование, так как связываться с новыми владельцами «Резонанса» она бы никому не посоветовала, ибо это были самые что ни на есть бандиты, из-за которых, собственно, ей и пришлось пойти на срочное переименование газеты, потому что она не могла допустить, чтобы рупор петербургской интеллигенции, газета «Резонанс», стала, как того хотели новые владельцы, жалкой бульварной газетенкой, дешевым таблоидом, каких и так в Петербурге расплодилась уйма, а газет, подобных «Резонансу», не то, что в Петербурге, но во всей России были буквально считаные единицы. Именно это, и ничто другое, подвигнуло ее на столь радикальный шаг, возможно, совершенно и неожиданный для многих присутствующих в зале.
Так что теперь каждый мог сделать свой выбор сам: идти ли ему в погоню за длинным рублем и заново оформляться на своей старой работе, в старом «Резонансе», либо, подчиняясь неписанному кодексу чести профессионального журналиста и осознавая свое высокое предназначение, остаться работать на своем прежнем новом месте, в только что возникшем «Новом Резонансе». Ибо по сути, по духу, «Новый Резонанс» и был, есть и будет, она была в этом убеждена, настоящим старым «Резонансом», тогда как старый «Резонанс» был пока вообще неизвестно чем, и неизвестно еще, состоится ли когда-нибудь он вообще как газета, а если и состоится, то по поводу уровня этой газетенки лично у Китоновой не было никаких иллюзий…
Маруся и еще две пенсионного возраста корректорши оказались, кажется, единственными, кто не принял план Китоновой. Марусе вся эта история с переменой названия сразу же напомнила классический шулерский прием с незаметной подменой карты, о котором так часто говорил Костя, используя этот образ в качестве метафоры для иллюстрации своих мыслей.
Маруся каким-то чудом успела в последний момент проникнуть в бухгалтерию, где ей даже выдали справку о задолженности. Было видно, что в бухгалтерии совершенно не ожидали, что к ним после речи Китоновой кто-нибудь вообще обратится с подобной просьбой. Однако, после марусиного там появления, они, видимо, сумели быстро перестроиться, и пришедшие после нее туда пенсионерки-корректорши таких справок уже не получили.
Нового адреса нового старого «Резонанса» в старой редакции старого «Нового Резонанса» тоже, как выяснилось, никто не знает, у Китоновой он где-то был записан, но она никак не могла его найти. Старушки-корректорши, вроде бы, раздобыли этот адрес и с листочком в руках уже, было, радостно кинулись в сторону метро, но вскоре вернулись назад, так как по дороге выяснилось, что у них на листочке написан адрес дома, в котором они только что находились, этот адрес дал им вахтер, потому что подумал, что это пришли какие-то читательницы газеты и хотят написать в «Новый Резонанс», адрес которого они у него спрашивают.
В конце концов, каким-то чудом Марусе удалось получить и адрес, и уже на следующий день она приехала на Петроградскую и встретилась с новым главным редактором «Резонанса», его звали Александр Иванович Молодцов, он был прапорщиком в отставке и приехал в Петербург буквально неделю назад из Саратова, где в течение нескольких лет издавал газету «Саратовский коммунар», там новые владельцы «Резонанса» и заметили способного журналиста, срочно пригласив его в Петербург и даже купив ему здесь комфортабельную трехкомнатную квартиру.
Молодцов оказался почти на голову ниже Маруси, у него были тоненькие, аккуратно выщипанные усики, круглые, как пуговицы, бесцветные глазки и зализанные к затылку редкие волосики. Правое плечо у него было настолько выше левого, что во время разговора он почти касался его ухом, отчего, весь такой хрупкий и маленький, он напоминал Марусе младенца, который плохо держит головку.
Александр Иванович тоже считал, что такого уровня, как у них в Саратове, настоящих профессионалов, здесь в Петербурге среди журналистов поискать днем с огнем, поэтому он собирался своих сотрудников, главным образом, выписывать из Саратова и окрестных областных городков, поселив их на первое время в одном из заводских общежитий на Выборгской стороне. Из числа же старых сотрудников «Резонанса» его вообще мало кто устраивал, большинство из них, по его мнению, абсолютно не умели писать и ничего не смыслили в проблемах замечательного города на Неве, которые ему даже оттуда, издалека, с Волги, были видны гораздо лучше. При этом он весьма скептически окинул Марусю взглядом с ног до головы, и сказал, что, если она надеется получить долги, за которые он, собственно, не несет никакой моральной ответственности, а просто отвечает за других сугубо формально, как это она сама прекрасно понимает, то тогда она должна будет пройти у него испытательный срок, который будет длиться неопределенное время, пока он окончательно не решит, подходит ли она ему, тогда, может быть, ей начнут выплачивать полную ставку, а пока она может рассчитывать разве что на пятую ее часть. И само собой, ей надо будет забыть о том свободном расписании, которым обычно пользуются столичные журналисты, так как у них в Саратове так не принято. Приходить на работу надо будет в девять утра, а уходить, соответственно, в районе шести, но все это только в том случае, если его устроит качество марусиных текстов, с которыми он еще не успел ознакомиться, потому что в настоящий момент у него очень большой конкурс на каждое рабочее место, а непомерно раздувать штат, как это было в старом, а теперь «Новом Резонансе», он не намерен.
Все эти его предложения Маруся должна была, по его мнению, предварительно хорошенько осмыслить и обдумать, прежде чем принимать столь ответственное в своей жизни решение, и подавать ему заявление о приеме на работу, которое он потом должен будет еще рассмотреть и наложить на него свою резолюцию. Что касается тех двух пожилых корректорш, которые ему уже звонили, то на их счет у него уже сложилось вполне определенное мнение, это были абсолютно безграмотные, выжившие из ума пенсионерки, которые почему-то возомнили, что могут выполнять эту сложную и ответственную работу в газете, с ними, в отличие от Маруси, он даже и встречаться не собирался.
Столь сложная процедура получения уже заработанных ею денег Марусю совсем не устраивала, ей очень хотелось найти какой-нибудь путь покороче, чтобы побыстрее получить деньги, которые ей были очень нужны. Она теперь жалела, что так пассивно относилась к этой проблеме в последний год своей работы в «Резонансе», но бессознательно ей было даже как-то приятно думать, что у нее как бы отложена на будущее еще целая тысяча долларов и так, в невыплаченном виде, они даже лучше сохранятся, и потом она почему-то думала, что они никуда не денутся, и она всегда их может потребовать, и тогда сможет купить себе не только мороженое, но и еще много чего, что ей было крайне необходимо, например, какое-нибудь красивое платье, или новую дубленку, или зимние сапоги…
***
Сева Азаров, коллега Маруси по «Универсуму», писавший на криминальные темы, посоветовал ей обратиться к адвокату, который консультировал журналистов бесплатно.
В адвокатской конторе «Голицын и Ко» ее встретил видный пожилой мужчина с окладистой бородой и благородной сединой в волосах, чем-то отдаленно напоминающий Тургенева, каким его обычно изображали на старых портретах и в школьных учебниках. Он сразу же сообщил Марусе, что он, являясь представителем старинного русского княжеского рода, основал свою контору вместе с двумя своими племянниками и сыном исключительно для того, чтобы помогать попавшим в беду людям, но это было чем-то и так само собой разумеющимся, ибо это его професссиональный долг, так его учили в Университете на юрфаке, поэтому он основал контору не только с этой очевидной для всех целью, но еще и с целью возрождения во многом утраченной в годы коммунистического правления традиции настоящей российской юриспруденции — это уже своего рода сверхзадача, которую он преследовал в каждом своем деле, в каждом своем конкретном поступке и, в сущности, это и было настоящим смыслом всей его деятельности, о которой она, Маруся, как журналист, тоже могла бы где-нибудь при случае написать, не обязательно, конечно, прямо сейчас, можно и через месяц или два, и по какому-нибудь иному поводу.
В приемной, пока Маруся некоторое время ждала своей очереди у кабинета Голицына-старшего, она действительно видела множество вырезок из разных газет, развешанных по стенам, в основном это были публикации под рубриками: «Советует адвокат», «С вами беседует специалист», «В гостях у адвоката», «Юрист предупреждает» и т.п.,- на всех вырезках были фотографии пожилого видного мужчины с благородной сединой.
Главным же условием возрождения этой утраченной традиции отечественной юриспруденции было установление доверия между клиентом и адвокатом, чему и должна была способствовать его славная фамилия, которой Голицын сам лично никогда не кичился и даже сейчас не стал особенно спорить с этими мудаками из Дворянского собрания, которые отказались его туда принять и поставили под сомнение его происхождение, ему на это глубоко плевать, ведь главное-то было не в фамилии, а в его честности, в которой еще никто из его клиентов никогда не смог усомниться.
Сейчас, например, он вел крупный процесс, в котором защищал местного петербургского журналиста, марусиного коллегу, в его тяжбе с Жириновским. Журналист отснял двухчасовой видеофильм про Жириновского, и, после того, как этот фильм был растиражирован на видеокассетах, Жириновский неожиданно отказался платить ему обещанный авторский гонорар, заявив, что того, что записано на этой кассете, он никогда в жизни не говорил и сказать не мог, а эта кассета уже вовсю продается, более того, он теперь предъявил встречный иск журналисту за грубое искажение его слов и моральный ущерб, хотя всем известно, что Жириновский мог говорить, что угодно и как угодно, это он, собственно, и собирался доказывать в суде. Жириновский же, в свою очередь, настаивал на том, что именно этого, что записано на кассете, он никогда не говорил и говорить не мог. Голицын даже предложил Марусе буквально на следующий день прийти на этот процесс и посмотреть, если ей интересно.
Что касается марусиного дела, Голицын сразу же вызвался ей помочь. Он прекрасно знал Китонову и называл ее не иначе как Оля, он тоже считал, что, несмотря на некоторую абсурдность ситуации, когда долги делали одни, а отдавать их должны другие, тем не менее, по закону это действительно так, поэтому он сразу же при помощи своего помощника составил от имени Маруси заявление в суд. Сначала он даже хотел, было, написать в нем, чтобы судья оформил судебный приказ, так как это было бы даже быстрее, тогда деньги без лишней волокиты просто сняли бы у них со счета и превели Марусе, но потом он решил, что этого будет недостаточно и составил более обстоятельное заявление с требованием возместить не только долг по зарплате, но еще и моральный ущерб в целых две тысячи долларов, который Марус — а ему как юристу это было совершенно очевидно — в данном случае понесла. К заявлению он приложил справку о задолженности, которую Маруся принесла с собой, все это он положил в конверт, который отдал помощнику, чтобы тот его отправил по назначению.
Однако уже через полторы недели это письмо Маруся получила обратно с разъяснением, что все дела и иски к ответчику рассматриваются судами по месту их нахождения, то есть этот иск должен был рассматриваться Петроградским районным судом, где располагался «Резонанс», а Голицын почему-то отправил его в суд Центрального района, где жила Маруся. Справки о задолженности, которую она добыла с таким трудом, в вернувшемся письме уже не оказалось. Она стала звонить в контору «Голицын и Ко», но безуспешно, на работе его застать ей никак не удавалось, в конце концов, ей дали его домашний телефон.
Она позвонила ему домой вечером около девяти часов, Голицын был в очень веселом расположении духа, громко смеялся и шутил, называл ее «Марусенька», а Китонову — «Оленька», говорил, что он их обеих очень любит и помнит о них, причем не просто помнит, а только о них постоянно и думает, правда, о письме, которое он составил, он уже ничего не помнил, поэтому просил ее перезвонить через час, потому что сейчас был очень занят по работе, у него в гостях был какой-то очередной клиент. Однако через час он был уже совсем грустный, говорил заплетающимся языком и, кажется, даже плакал, он с трудом узнал Марусю и, судя по всему, уже не помнил даже, что она звонила ему час назад, но все равно, трагическим голосом, с едва сдерживаемым рыданием, он долго просил у нее прощения, если он чем-то когда-то ее обидел, потому что он ее, дуреху, очень-очень любил, а русские женщины, по его мнению, те и вообще были самыми лучшими женщинами в мире…
Больше в контору «Голицын и Ко» Маруся не пошла, она решила еще раз сходить в бухгалтерию «Нового Резонанса» и восстановить утраченную справку о задолженности. На сей раз ее там встретили гораздо приветливей, теперь все сотрудники бухгалтерии ей даже сочувствовали и, вроде бы, были готовы сразу же выдать ей эту справку, жаль только, что она пришла слишком поздно, опоздала буквально на один день, потому что не далее, как вчера, во время обеденного перерыва, когда они отсутствовали в комнате, где стоит компьютер со всей бухгалтерской информацией, в эту комнату, по совершенно нелепому стечению обстоятельств, проник какой-то маньяк, случайный прохожий с улицы, они сами толком не понимали, как он мог пройти мимо вахтера, и тот не остановил совершенно незнакомого человека, но сейчас об этом было уже бессмысленно говорить, потому что он в их отсутствие просто так, от нечего делать, зачем-то уничтожил всю информацию о задолженностях сотрудникам, которая там хранилась, и теперь ее было совершенно невозможно восстановить.
На Петроградской на дверях помещения, где две недели назад располагался «Резонанс», Маруся обнаружила огромный замок, никаких табличек там больше не было. У старушки-корректорши Маруся узнала по телефону, что «Резонанс» неделю назад переехал на Выборгскую, еще через пару месяцев она же сообщила Марусе, что «Резонанс», который находился уже на Васильевском, сменил учредителя, и теперь это было ООО «Луч света», а от старого «Резонанса» остались только логотип и название, так что даже формально там им теперь никто ничего не должен…
***
В отношениях с ЕРС после той передачи с Русланом и Болтом о «состоянии современной культуры» у Маруси тоже наступила длительная пауза. Некоторое время Владимир, правда, писал ей по электронной почте, но потом надолго замолчал, все ее послания к нему теперь возвращались непрочитанными с пометкой о каких-то неполадках в сети, из-за которых адресат не может получить ее сообщение. И только жирный мудак к марусиному удивлению вдруг неожиданно прислал ей игривое послание, начинавшееся словами «Здравствуй, моя Мурка!» и подписанное «Твой Беня Крик», в этом послании он предлагал ей сделать передачу о петербургских художницах-женщинах, для этого Маруся должна была срочно выслать ему небольшой планчик-синопсис, где коротко изложить свои мысли по этому поводу, с кем она будет беседовать, и какие конкретные темы она будет со своими собеседницами обсуждать.
Маруся без особого труда сразу же набросала план будущей передачи, где перечислила нескольких ее потенциальных участниц, включая Арину с оранжевыми волосами, Лизу, которая работала раньше корректором, а потом перешла в искусствоведческий журнал после того, как увидела на улице какавшую женщину и решила, что эта Знак, Елену, жену Геннадия, из «черненьких», Елену Студебеккер из Академии Мировой Музыки и еще несколько других. Конкретные вопросы она еще не смогла для себя точно сформулировать, поэтому так и написала об этом Опухтину, в сущности, все было ясно и так — детали должны были проясниться по мере беседы с каждой из участниц. Главная же идея передачи, которую она сформулировала не без помощи Кости, заключалась в том, что именно в отношении к женщине в каждую эпоху ярче всего выражается общее состояние культуры того или иного времени, той или иной социальной группы. Так например, сколько бы Бенкендорф ни преследовал гениального поэта Пушкина, сколько бы всем в недавнем прошлом это ни внушали в многочисленных фильмах, книгах и публикациях, стараясь его всячески принизить, все равно, по крайней мере бессознательно, ни у кого не вызывает сомнений, что это был человек высокой культуры, потому что он всегда вставал перед дамами и вел себя с ними крайне галантно, даже в тех же пропагандистских фильмах. То же самое можно было сказать и об офицерах Третьего Рейха…
Однако буквально на следующий день она получила от Опухтина, совершенно неожиданно для себя, истеричный ответ, в котором ее полстраничный синопсис подвергался тщательной и разносной критике, изложенной аж на целых двух страницах. Жирный мудак Опухтин на сей раз обращался к ней совсем не игриво, а вполне официально «Многоуважаемая», далее он подробно разбирал многочисленные неточности, оплошности и небрежности, якобы допущенные Марусей в присланном ему плане передачи, больше всего его раздражало то, что она никак не конкретизировала и не раскрыла поставленную перед ней тему о положении женщины в современной культуре, ограничившись банальными и навязшими в зубах обобщениями о вежливом обхождении, он был также крайне недоволен ее общим отношением к работе, нежеланием думать и стремлением всячески схалтурить, в связи с чем он вполне официально уведомлял Марусю, что впредь он оставляет за собой право больше не рассматривать никаких ее предложений, а также поставит в известность об ее отношении к работе вышестоящее начальство. Это послание, судя по указанным в мейле адресам, он уже отослал Лучиано, Владимиру, а также в брюссельскую, московскую и лондонскую студии ЕРС.
Маруся ответила ему очень коротко в том смысле, что у любого текста, к сожалению, есть не только автор, но и читатель, и поэтому далеко не всегда именно автор виноват в том, что читатель его не понял. На этом контакты Маруси с этой радиостанцией окончательно оборвались.
Через пару недель, зайдя в питерскую студию ЕРС, она натолкнулась там на корреспондента ЕРС, Осинцева, который, как обычно, был сильно пьян, он вообще много пил, в том числе, и в студии, особенно ближе к концу рабочего дня. Осинцев под большим секретом сообщил Марусе, что теперь она для Лучиано стала «персоной нон-грата», потому что в Москве какие-то очень важные люди, правда, кто конкретно, он говорить отказался, уже давно, по его словам, катят на нее бочку, со времен ее первого интервью на ЕРС, но может быть, это даже и не они были виноваты, но во всяком случае, Лучиано теперь был убежден, что Марусю к ним в Прагу специально заслали и чуть ли не из ФСБ, о чем он, вроде как, даже оповестил всех сотрудников на летучке, причем уже месяц назад… То есть получалось, что это было еще до предложения жирного мудака сделать передачу о женщинах — почему-то это первое пришло тогда в голову Марусе… Правда, сам Осинцев толком ничего не знал и не понимал, и более того, со своей стороны, он был к Марусе расположен всей душой и никогда ей зла не желал, но, на всякий случай, советовал ей больше сюда, к ним в студию, не заходить.
И действительно, когда еще через пару недель Алеша, который, возможно, был не в курсе всей этой возни, так как работал по ночам, попросил ее передать ему через питерскую студию в Прагу несколько необходимых ему книг, Осинцев даже по телефону говорил с ней полушепотом. Книги, правда, он взять согласился, потому что Алешу он тоже очень любил и уважал, но встретиться для этого они должны были с Марусей на Невском проспекте, а не в студии, как раньше, что, вроде бы, было гораздо проще, потому что не надо договариваться об определенном времени.
Чтобы внести хоть какую-то ясность во всю эту путаницу, Маруся даже несколько раз пыталась позвонить Лучиано в Прагу, однако всякий раз его не было на месте, а в последний раз секретарша сказала, что он в Москве, на конгрессе правозащитников, и действительно, вскоре Маруся даже видела его по телевизору. Теперь она начинала понимать, почему и деньги за ту передачу с Русланом ей выплатили с некоторой поспешностью, на месяц раньше, чем это обычно делали, причем, вместо двухсот долларов, как, вроде бы, ей должны были заплатить, ей на счет перевели только сто. Маруся знала, что у Китоновой муж тоже занимал очень высокий пост в ФСБ, но она старалась не думать об этом, чтобы не забивать себе голову лишней информацией, в конце концов, и в том, и в другом случае, ей важны были только деньги.
А тут еще Серафим неожиданно объявил Марусе, что он к настоящему моменту уже выплатил ей все причитающиеся ей деньги за ее перевод, которые ей выплачивались в течение шести месяцев у него в издательстве по трудовой книжке, так как такая форма выплаты гонорара, по словам Серафима, была для него наиболее удобна, потому что позволяла ему избежать лишних налогов, а, как она должна помнить, первую половину гонорара, то есть шестьсот долларов, он уже вручил ей год назад лично в руки, хотя и забыл тогда взять с нее за них расписку, но он очень надеялся, что она этого не забыла.
Всю эту информацию он изложил Марусе у себя дома, куда она принесла ему окончательный вариант вычитанной верстки своего перевода Селина, при этом Серафим на протяжении всей своей непродолжительной речи внимательно и не моргая смотрел Марусе прямо в глаза, он тут же вернул ей и ее трудовую книжку, которая ему больше была не нужна, а как только Маруся попыталась что-то возразить, он вдруг радостно замахал руками и закричал, обращаясь к своей жене на кухне:
— Мириам, Мириам, а где же наш кофе?
Мириам тут же принесла им по чашечке кофе, даже вазочку с вареньем и большую корзинку с вкусным печеньем.
И уже через полчаса Маруся оказалась на улице, так и не сумев высказать ему свое недоумение, она мучительно старалась вспомнить, о каких долларах, которые, якобы, год назад выплатил ей Серафим, шла речь. Все это казалось ей столь неожиданным и вопиющим враньем, что только теперь, на улице, через полчаса, до нее наконец что-то стало доходить. Кроме того, под мышкой у нее был тяжеленный рулон серого армейского сукна, который достался Серафиму в наследство от его отца-полковника, потомственного донского казака, и который на прощание, в знак своего особого расположения к ней, Серафим ей подарил.
Несколько раз Маруся еще пыталась дозвониться до Серафима, чтобы предупредить его, что, если положенные ей шестьсот долларов не будут ей выплачены, то она заберет свой перевод и отдаст его другому издателю, тем более, насколько она помнила, никаких договоров с Серафимом по поводу этого перевода она не подписывала, ведь деньги он ей выплачивал исключительно по трудовой книжке, в соответствии с записью в которой она некоторое время, якобы, работала у него в издательстве в качестве переводчицы, и только. Однако всякий раз Серафима либо не было дома, либо к телефону подходила его жена, либо он сам куда-то очень спешил, но, когда Маруся все-таки попадала на него, он неизменно подбадривал ее и советовал особенно не расстраиватьсяя, говорил, что все у нее будет в порядке, ведь она еще так молода и так талантлива, лично он от ее переводов в полном восторге, такого мастерства и утонченного чувства стиля он раньше ни у кого не встречал, а ведь у нее еще все впереди, она не должна также забывать, что ей уже выплатили целых шестьсот долларов настоящими живыми деньгами, в то время, как у него на родине в Самаре множество рабочих месяцами сидят без зарплаты, а если им и платят, то унитазами и надгробными плитами… Мириам, в свою очередь, просила Марусю не слишком огорчать Фиму и не доставать его так часто своими звонками, потому что у него очень хрупкое здоровье, и он вообще человек очень нервный, а если он огорчится и от огорчения заболеет, то всем будет только еще гораздо хуже, чем есть…
В конце концов, Маруся вспомнила про Николая Корзуна, который, вроде бы, очень любил Селина и еще Толкина, главным образом за то, что и тот и другой замечательно описывают в своем творчестве замки, от которых он сам был просто без ума. Корзун уже однажды пытался Марусе у нее на кухне продемонстрировать свою любовь к замкам и даже сломал ей стул, прыгая на нем со шваброй под мышкой, изображая средневекового рыцаря, тогда он как раз и говорил о своем большем желании издать Селина, но в тот момент у него на это не было денег. Теперь же он, вроде, был готов к осуществлению этого проекта, во всяком случае, он со вниманием выслушал Марусю, и сразу же предложил ей заключить договор; что касается Серафима, то он считал, что тут Марусе беспокоиться особенно не о чем, если они не подписывали никакого договора. Но на всякий случай, просто чтобы подстраховаться, ей было нужно подать на Серафима заявление в суд, а то вдруг он все-таки выпустит этот перевод, и тогда Корзун как издатель тоже понесет определенные убытки, правда, никаких денег сам он Марусе пока не предложил, а пообещал расплатиться с ней сразу же после выхода книги в свет. Заявление же в суд как автор перевода Маруся должна была подать от своего имени, как частное лицо она на это имела полное право по закону. Корзун же своим авторитетом и по мере собственных сил готов был оказать ей во всех этих разборках поддержку с тыла.
Однако в суде заявление у Маруси с первого раза не приняли, так как его следовало составить по форме, которой Маруся по неопытности не знала, поэтому ей срочно понадобился адвокат, хотя бы для того, чтобы составить исковое заявление. Сам суд произвел на Марусю гнетущее впечатление, пробыв там около полутора часов в толпе, главным образом, состоявшей из пенсионеров, которые, отталкивая друг друга локтями, стремились проникнуть в кабинет судьи, она почувствовала себя очень плохо и, если бы в это мгновение не подошла ее очередь, она, пожалуй, и вовсе бы выскочила на улицу на свежий воздух, потому что с ней опять случился приступ клаустрофобии, страха перед этим большим скоплением народу и замкнутым пространством, такие приступы часто случались у нее в Париже в метро, а потом, вроде бы, на некоторое время прекратились.
***
Адвоката, «специалиста по авторскому праву», по объявлению нашла марусина подруга Ира, и они вместе с ней отправились к нему в большую коммуналку на Среднем проспекте Васильевского острова, где он, как выяснилось, снимал комнату. Это был высокий тощий юноша, во всяком случае, моложе Маруси лет на пять, с выкрашенными в соломенный цвет длинными волосами; он сразу же предупредил Марусю и Иру, что берет полтинник в час, и это по нашим временам совсем не дорого, проконсультировать же за это время он их мог по любому вопросу, какие их только интересуют, так что они могут смело его спрашивать абсолютно обо всем, он им все сразу расскажет и объяснит. Марусю интересовала только судьба ее перевода.
По его мнению, в этом вопросе существовало очень много самых разных неожиданных тонкостей, о которых неподготовленный человек может часто даже и не подозревать, поэтому всем людям так и нужны советы таких, как он. Например, Маруся считает себя автором перевода, а ведь настоящий автор этой книги совсем другой, и где он сейчас находится, ведь, может быть, многое зависит от него… Как она сказала, его фамилия? Селин? Хорошо, так вот тогда, пожалуй, лучше бы сам Селин, а не Маруся к нему сейчас и пришел, и он бы с ним с удовольствием побеседовал, потому что автор-то именно он, а Маруся здесь, вроде как, и не при чем. Люди вообще часто заблуждаются на свой счет и принимают себя не за тех, кем они являются, поэтому то, что Маруся — не Селин, это он сразу мог ей сказать и внести полную ясность в ситуацию, чтобы она, на всякий случай, так не думала… Заметив же, что Ира, после этих его слов, стала как-то слишком нервно ерзать на стуле, он сразу же поспешил ее и Марусю успокоить и даже попросил прощения, если он сказал что-то не то, потому что все это он говорил просто так, для примера, чтобы они поняли, какие сложные и двусмысленные ситуации могут часто и совершенно неожиданно возникнуть во время длительных судебных разбирательств, чтобы мысленно подготовить их ко всему, заставить их немного раскрепоститься, оглядеться по сторонам, для этого ему и нужно было подойти к этой проблеме с совершенно иной, неожиданной стороны. Этот прием он всегда использовал в своих консультациях, и он всегда приносил ему хорошие результаты.
И хотя сам он, как они видели, еще человек сравнительно молодой, но опыт работы у него уже достаточно внушительный, и успехи тоже весьма и весьма впечатляющие, в частности, уже сейчас он был заместителем председателя Калининского отделения «Мемориала», организации, в которой многие ребята и сегодня еще от прав человека просто охуевали — при этом он жестом указал на висевший у него над головой портрет академика Сахарова — он же, будучи помоложе, не брезговал и коммерцией, и вообще не гнушался никакой работой, и если, например, у них с Ирой прохудилась сантехника, то он тоже брался им в этом отношении помочь и мог по знакомству достать замечательный, совершенно новый итальянский унитаз, причем совсем недорого, потому что фирма, которую он постоянно консультировал, уступала ему такие унитазы оптом по дешевой цене, а он их уже дальше переправлял, в Псков и в Новгород, где тоже были отделения их «Мемориала». Помимо фирмы, снабжавшей его унитазами, он был знаком еще со многими известными людьми Москвы и Петербурга: музыкантами, писателями, артистами,- некоторых из них ему тоже приходилось иногда выручать в трудной ситуации, правда, большинство его клиентов, к сожалению, были люди уже преклонного возраста, пенсионеры, бомжи, и проститутки, и все они его уже порядком достали, поэтому ему и было так приятно поговорить с интеллигентными дамами, вроде Маруси и Иры…
Маруся наконец-то попыталась изложить ему суть дела, по которому они к нему пришли, но он сразу же замахал на нее руками и сказал, что ему и так все ясно, она может ничего не говорить, потому что, по большому счету, все, что она скажет, никого не интересует, то есть, не его лично, как раз его это очень интересует, но в суде, это уж точно, никого не интересует, и это он прекрасно знал по своему личному опыту. Например, недавно он защищал одну девушку, приехавшую в Петербург откуда-то из Сибири, которую свекровь, после того, как та развелась со своим мужем, выставила за дверь с маленьким ребенком на руках, хотя она была прописана у нее в квартире, и по закону свекровь этого сделать не могла, тем более, что у девушки здесь в Питере больше никого не было, и ей просто негде было даже переночевать, поэтому он вообще не сомневался, что это дело верное, что здесь и так заранее все ясно, выселять его подзащитную никто не имел права, поэтому он весь процесс спокойно сидел и ни хуя не делал, ничего даже не говорил, отказался от своего слова, просто решил немного отдохнуть, раз уж исход был настолько ясен и очевиден, а судья и два народных заседателя, немного посовещавшись, вернулись в зал и вдруг объявили: «Выселить!«,- ну тут он совсем охуел, и уже в коридоре, после заседания, подошел к судье и спросил ее, а куда же бедная девушка теперь пойдет, а та ему в ответ: «С улицы пришла, на улицу и пойдет!»- вот так.
Так что и Маруся должна готовиться к самому худшему, а есть у нее с кем-нибудь договор или нет — это абсолютно никого не интересует. И все потому, что современная судья, как правило, это ведь такая же, как они, женщина, а пусть они представят себе молоденькую выпускница юрфака, которой просто некуда пойти, нигде ее больше не взяли, вот она и пришла в суд, а что ей еще остается, теперь, вероятно, им уже немного ясно, с кем им придется иметь дело в суде, с какими кадрами. Конечно, он, как заместитель председателя «Мемориала» может, со своей стороны, поспособствовать успешному разрешению вопроса, если они согласятся, чтобы он помогал им и в дальнейшем, потому что как раз у Центрального суда довольно тесные связи с их «Мемориалом», то есть он может подойти к судье в кулуарах, поинтересоваться, как у нее дела, как здоровье, а заодно и спросить, а как там насчет марусиного дела, на чью сторону она склоняется, можно даже и к прокурору сходить, но это он совсем не для того говорит, чтобы Маруся и Ира прямо сейчас ему выложили бабки, и он пошел и дал судье на лапу, так этого делать ни в коем случае нельзя, потому что тогда судья его сразу на хуй пошлет, да и ему подставлять ни себя, ни их не хочется, за дачу взятки должностному лицу на зоне валандаться ему совсем не с руки, но вот их тесные отношения с «Мемориалом» судья учесть может, но конечно, это тоже ничего никому не гарантирует, потому что наш суд — это совсем не то же самое, что суд в Америке или во Франции, так как там есть суды с хорошо оплачиваемыми судьями и адвокатами, где ведется тщательное разбирательство всех деталей и тонкостей каждого дела, а есть суды для бедных, где все решается гораздо проще и быстрее, в общем, как у нас, так как у нас пока что все суды — это и есть суды для бедных.
Вот он, например, с какой стати должен будет очень стараться и защищать их интересы, у него и своих проблем хватает, тогда для чего, спрашивается, ему забивать себе голову всякой ерундой, авторским правом и прочей белибердой, пусть Маруся и Ира хорошенько подумают над этим вопросом, сам себе он еще не дал на него окончательного ответа, поэтому всякий раз, когда он берется за дело, он все время спрашивает себя — а зачем ему все это надо, на кой хуй, все эти наркоманы со своей наркотой, выселенные из коммуналок пенсионеры, пойманные за руку сутенеры, избивавшие своих подопечных, проститутки, бомжи и прочие отбросы общества, ради чего он должен копаться во всем этом дерьме, ведь он еще достаточно молодой человек для того, чтобы забивать себе голову всей этой хуйней, вот они с Марусей пришли и скромно, интеллигентно молчат и слушают его, а если бы на их месте сидел сейчас какой-нибудь сумасшедший пенсионер, то он бы его уже к этому моменту так достал своими рассказами и жалобами, что он бы просто не знал, куда от него скрыться и убежать, он даже эту комнату специально снял для своих консультаций, подальше от своей квартиры на Петроградской, чтобы при случае можно было отсюда незаметно исчезнуть, и его бы больше никто никогда не нашел… После он еще рассказал Марусе и Ире несколько своих самых интересных дел, которые ему приходилось вести в последнее время: про наркоманку, которую нашли полгода назад в ванной с перерезанными венами, ученицу десятого класса средней школы, про драку на коммунальной кухне, когда зять стукнул свою тещу сковородкой по голове, и еще про какого-то обдолбанного бомжа, который даже говорить толком не умел, а все больше мычал… В результате Ира опять стала нервно ерзать на стуле, а Маруся тоже заметила, что они находятся у адвоката уже почти три часа, а оплата за консультацию была у него, между прочим, почасовая, а он все говорил и, кажется, совсем не собирался останавливаться. Правда, заплатить за консультацию обещала Ира, так она хотела поддержать Марусю в трудную минуту, но от этого Марусе было еще более неловко перед ней, поэтому она, улучив момент, наконец-то решительно встала и сказала, что все, спасибо, но им пора, к сожалению, они опаздывают на работу.
Он сразу же выразил глубокое сожаление по этому поводу, потому что ему было очень приятно побеседовать с такими интеллигентными и умными дамами, и он, конечно же, будет рад видеть их у себя еще, если они надумают воспользоваться его услугами снова. Заявление в суд он, правда, тоже помог им составить, и даже не взял за это денег. Уже в прихожей Ира еще раз спросила его, чем же все-таки, на его взгляд, должно разрешиться это дело, в которое Маруся ввязалась, на что он опять ответил:
— Ну я ж те сказал, — в конце он уже полностью перешел с Ирой и Марусей на «ты», — может быть все, что угодно!
***
После того, как мама утратила всякий интерес к Лике, она чаще всего приводила Марусе в пример ее троюродную сестру Таню, которая раньше работала библиотекарем в школе, а потом сошлась с каким-то грузином, который, если верить маме, был чуть ли не идеалом мужской красоты и обходительности, у него были «замечательные выразительные глаза» и, ко всему прочему, настоящий талант предпринимателя, он уже приобрел себе ларек у метро «Пролетарская», где торговал фруктами и овощами, и в ближайшем будущем собирался значительно расширить свой бизнес. По словам мамы, он очень любил Таню, но пока не мог жениться, потому что у него осталась еще жена в Кисловодске, с которой он сначала должен был развестись. Мама считала, что Вано является замечательной партией для Тани, а Маруся, по ее мнению, могла бы прямо сейчас пойти работать в его ларек у «Пролетарской».
Но еще больший восторг у мамы вызывала некая Гуйяна, подруга Тани, с которой она познакомилась через Вано, которая, недавно приехав в Петербург из Якутии, сумела уже приобрести здесь себе квартиру и обладала редкой для женщины деловой хваткой и предприимчивостью. Гуйяна жила с приятелем Вано Гиви. Мама считала, что Маруся должна обязательно познакомиться и с Вано, и с Гуйяной, для чего однажды пригласила их вместе с Таней и Марусей к себе в гости.
Вано оказался еще более отвратительным и мерзким, чем Маруся могла себе представить, не то, чтобы он был полный урод, но просто у него были какие-то гнусные заискивающие лакейские манеры, и очень неприятный беспокойный взгляд, Марусе также не понравилось, что, в первый раз придя к маме в гости, Вано слишком по-хозяйски стал осматривать все комнаты, что где стоит. О Гуйяне и ее предпринимательских способностях она с первого взгляда сказать ничего не могла, кроме того, что у нее было характерное чукотское или якутское лицо с узкими глазами. Ко всему прочему, Вано еще и не курил и почти совсем не пил, что приводило марусину маму в особый восторг.
Когда Маруся вместе с Таней и Гуйяной вышли на кухню покурить, Таня сразу же предложила Марусе помочь разобраться с издателями, которые, как она слышала от марусиной мамы, ее кинули, потому что, по ее словам, некий Нодари очень хорошо разбирался в подобных ситуациях, а под его руководством был даже целый отряд сотрудников ФСБ, и ему стоило только позвонить по указанному телефону, как вопрос сразу будет решен, даже делать ничего не надо будет, издатели сразу выложат Марусе все деньги и еще заплатят сверху, правда, сам Нодари сейчас сидел в тюрьме, по словам Тани, за неуплату налогов, поэтому надо было немного подождать, когда он освободится, тогда сразу же все будет в порядке.
А так, если сидеть на жопе ровно и ни хуя не делать, в наше время Марусю быстро обдерут, как липку, выебут, высушат, поставят на уши, отутюжат, опустят, заарапят, крутанут, надрючат, накатают дурочку, накормят, наплетут лапти, обштопают, опарафинят, раскинут понт, обуют, разуют, разденут и пустят по миру сосать лапу, ведь уровень тех, кто Марусю кинул, был Тане понятен: Здравствуй, дерево! — и таким интеллектуалам, как она и Маруся, надо было все-таки уметь за себя постоять…
Гуйяна была не согласна с Таней:
— Ты говоришь, что этот Нодари сотрудничает с ФСБ, и они придут пиздить издателей, которые ее надрали? А ты отдаешь себе отчет в том, какие это может все иметь последствия?
Ведь если они нанесут им тяжкие или там легкие телесные повреждения, то те просто-напросто пойдут в травму и зафиксируют там факт избиения, и в ментовку тоже пойдут и подадут заявление, и в результате Маруся будет отвечать в суде за все эти дела, а потом ей придется еще и оплачивать их лечение, и вместо денег она получит на свою голову массу проблем. У Тани просто нет мозгов, она мыслит другой частью тела, так что Гуйяна не советовала Марусе связываться с этими личностями.
Она приехала в Петербург два года назад и за это время уже многого успела навидаться. Еще когда Гуйяна ехала в Питер, с ней в поезде случилась очень забавная история, она до сих пор не могла о ней без смеха вспоминать. Она зашла в купе и села там на свое место, а через некоторое время дверь открылась, и в купе зашел мужик, а она так глазами туда-сюда, туда-сюда и думает: «Наверное он меня за ненормальную принимает«,- в общем, почему-то у нее было такое чувство. Мужик сел за столик у окна и стал в окно это смотреть, а на нее старался вообще глаз не поднимать, а за окном темно, ничего уже не видно, и ей так смешно стало, она сперва просто немного похмыкала, а потом чувствует — уже не удержаться от смеха, просто распирает, и она как засмеется! А мужик встал и из купе молча вышел, а она все смеяться продолжает — так он ее насмешил. Но вот видит, его все нет и нет, надо, думает Гуйяна, раздеваться, спать ложиться, и она разделась и легла под одеяло, натянула одеяло до самого подбородка и так и лежит. Через какое-то время смотрит — дверь купе тихонько открывается, и входит ее сосед, старается в ее сторону не смотреть, тихонько пробирается к своей полке, садится, выключает свет и, судя по звукам, начинает раздеваться, а она лежит, лежит, и ей вдруг опять ужасно смешно стало, и опять она удержаться не смогла и как засмеется — ха, ха, ха! Мужик вздрогнул, весь съежился и зарылся под одеяло с головой, и так всю ночь из-под одеяла не высовывался, хотя в какой-то момент Гуйяна все же заснула, но утром, когда открыла глаза, он все так же лежал, накрывшись одеялом с головой. А потом, когда поезд прибыл на конечную станцию, на Московский вокзал, быстро вскочил и оделся, и, ни слова не говоря, шмыгнул за дверь, а Гуйяна села у окна и еще косяк забила, у нее с собой из Якутска много было…
Муж Гуйяны был наполовину якут, наполовину еврей, он накатал телегу, что его в Якутии притесняют, хотел в Америке политическое убежище получить, а ему в ответ — ничего, не сработало, и правильно — пиздуй в тундру и тусуйся там, никто притеснять не будет. У него был друг, тоже женатый, и они вчетвером все так подружились — играли в покер, в преферанс, в кабаки вместе ходили, так он незаметно на иглу и подсел, сперва они с другом просто подкуривались, а потом и ширяться стали, и им все больше и больше дозняк стал нужен. Муж Гуйяны с другом уехали в Питер, а Гуйяне все это начало надоедать, она ведь из хорошей семьи, из богатой, правда ее мама, сволочь такая, повесилась — не могла видеть, как папа пьет.
А мама мамы, ее бабушка, умерла от сепсиса: естественно, нельзя рожать каждый год, как свинья, к тому же она еще и работала на трех работах. А мама была просто метеорит — трое детей и все делает, все бегает, когда она умерла, Гуйяна поняла, что ничего не умеет, раньше она из Москвы везла три сумки грязных вещей в Якутск стирать, то есть мама ее очень баловала, это она поняла, когда та умерла, Гуйяна раньше никогда не думала, что зима идет, надо шапку, шубу покупать, все это мама за нее думала, и вот она повесилась, и теперь она сама должна была себе вещи стирать, и о зиме думать. У нее была подруга-бурятка, Лера, единственная женщина, которая ее по-настоящему понимала, она бахайка, есть такая религия, так вот, они с ней еще в девятнадцать лет вместе пытались открыть частное предприятие. Гуйяна никогда не любила совок, но если она что-то все же могла сделать для этой страны, то почему бы не попробовать, ведь силы у нее есть. Они пошли регистрировать свое предприятие, им там глазки строили — бла-бла-бла, мол, девочки, мы вам поможем, а потом, и двух месяцев не прошло, такие навороченные на них наехали, они еле ноги унесли. И все им такие понты показывают, пальцами тычут, все у них реальное, и им тоже подавай конкретно, на их языке-то говорить Гуйяна и то не могла.
Дочке Гуйяны было шесть лет, очень красивая девочка, просто прелесть, в Америке после тридцати родить не проблематично, это у нас сразу проблемы, но она родила очень красивую, очень здоровенькую и умненькую девочку. Вообще, у нее только тело иногда устает из-за болезни, а вот мозги никогда не устают — они думают, что сделать, чтобы выжить, вот она и жива до сих пор. Своей дочке она очень красивое платье сшила и повела ее в цирк, сели они в девятом ряду, все вокруг умилялись — какая красивая девочка! А потом антракт, такая толпа, и она свою девочку потеряла, у нас же народ такой равнодушный — растопчут ребенка в красивом платье и не заметят, им что — бирку в зубы и бегом, теперь уже даже не кричат: «Чей ребенок, чей ребенок!», — а молча ломятся в фойе, к гардеробу. А ее девочке всего шесть лет, она, конечно, в красивом платье, но тем не менее, ее никто не замечает, она ведь крошечная, вот тогда она и написала стихотворение, которое назвала: «Я клянусь своей любовью к тебе доченька, что у тебя будет мама навсегда!». Потом она это стихотворение ей пела, и даже музыку сама написала.
А потом ей позвонил из Питера ее муж и попросил срочно приехать. Она дочку свою оставила у тетки, папиной сестры — она тоже очень красивая, настоящая красавица, — и поехала в Питер, а в Питере жила ее другая тетка, сестра мамы. Приехала, зашла в дом — у мужа на Фонтанке квартира была, а ее друг его встречает совершенно обдолбанный, ну просто никакой, и говорит, что муж с шестого этажа головой вниз съехал, весь обторчанный, перебрал, и произошло это буквально за два дня до ее приезда. Там внизу, у подъезда, даже осталась засохшая кровь, в том месте, где он приземлился, вот так и осталась теперь ее доченька наполовину сиротой, но мама у нее есть, а это самое главное. Гуйяна хотела поменять дирхамы, потому что у нее с собой были только дирхамы, но их нигде не брали, это неконвертируемые деньги. А жить она так и осталась там, в этой квартире, друг мужа ей готовил жратву, она поест — и каждый раз чувствует, что у нее крыша едет. Она ему сказала:
— Не надо мне мацанки подсыпать, пожалуйста!
А они хоть бы хны — их тогда уже двое было, еще один какой-то пришел, постепенно они у нее все деньги украли, так что ей пришлось переехать к знакомой, она наивная, поэтому ее пять раз и ограбили, папа хотел, чтобы она была такая, а сам, сволочь, пил, как свинья, но она все равно хотела быть маленькой, слабой, как ее папа учил. И вот однажды выходит она на Невский и встречает парня — лицо, вроде, знакомое, и тут он начинает с ней говорить, и она понимает, что у них должны быть общие знакомые.
— Вы, наверное, знаете моего лучшего друга Дениса?
А он ей отвечает:
— Да, знаю, он умер от передозы.
Тут с ней приключилась истерика, она упала прямо на тротуар, а он ушел, просто ушел, и оставил ее валяться на тротуаре.
Когда она встала, то заметила какого-то парня, который шел мимо, подволакивая ноги, на костылях, лицо у него было такое красивое, просветленное, они с ним разговорились, и ей легче стало, а Денису она все простила, и мужу своему тоже. Вскоре она себе другого мужа нашла — Витю, она ведь маленькая, слабая, ей нужна поддержка и опора, Витя работал на заводе Козицкого, на Козе, как он говорил, он телевизоры там собирал, а потом просто оттуда ушел и стал чинить телевизоры на дому, перед уходом с работы он там набрал деталей целый мешок, они ему потом пригодились для ремонта, Витя был высокий, худой, с большими голубыми глазами, очень Гуйяну любил и о ней заботился. Правда, у него была одна проблема — он пил, причем в основном ликеры, но наркотой не баловался, и это было уже хорошо. Особенно он любил вишневый ликер, однажды он допился до того, что у него случился приступ, он упал и потерял сознание, и ударился тыквой о стойку бара. Тогда врачи сказали Гуйяне, что ему нельзя пить, а ликеры в особенности, потому что у него какое-то избыточное давление в головном мозгу, и он однажды может просто умереть, а у Гуйяны и так уже умерли все, просто все близкие люди, только дочка одна осталась, и у нее этот диагноз просто вызвал истерику.
А доченька ее коллекционировала «Киндер-Сюрпризы», то есть эти игрушечки из шоколадных яиц, сами яйца она съедала, а игрушки расставляла так аккуратненько на полочки и на подоконники, и у нее набралось уже штук двести, Витя тоже дарил ей «Киндер-Сюрпризы», и даже в театры ее водил, и в цирк они с ним ходили, и она очень к нему привязалась. Но у дочки характер какой-то сумасшедший стал проявляться, чуть что не так скажешь, и она тут же начинает ругаться, причем все матом, откуда она эти слова выучила, Гуйяна и понять не могла, вроде в школу приличную она девочку отдала, и дети, и учителя там были хорошие. А дочка уже всех детей в классе била, учительница на нее жаловалась, и ее все стали бояться, и на родительском собрании Гуйяну предупредили, что, если это будет продолжаться, то придется ей свою доченьку из школы забирать. Гуйяна попробовала с ней по-хорошему поговорить, а она залезла на шкаф, на самый верх, прямо как обезьяна и давай оттуда швырять в нее «Киндер-сюрпризы», Гуйяна прямо испугалась, только когда Витя пришел и еще ей два «Киндер-сюрприза» принес, девочку оттуда сняли и успокоили.
Пару раз самого Витю домой доставляли грязного, избитого и вообще без денег, а один раз даже кожаную куртку с него сняли и привезли домой только в одной клетчатой рубашке, Гуйяна плакала, но ничего не помогало. Однажды к ним в квартиру ворвались мужики в кожаных куртках, Гуйяна открыла дверь, потому что в глазок увидела витиного знакомого, они часто вместе выпивали, но оказалось, что знакомый-то как раз и навел, Витя тогда получил триста баксов за ремонт японской аппаратуры, и они ворвались с пистолетом, затолкали Гуйяну и ее дочку в комнату, хотя дочка визжала и ругалась ужасно, и даже пыталась кусаться. Витю ударили по голове и все из квартиры вынесли, даже новые сапожки забрали, которые Гуйяна перед этим для своей дочки купила.
Гуйяна позвонила к себе в Якутск, и тетка ей дала адрес одного колдуна, настоящего шамана, который раньше жил в Якутске, а теперь снимал сглаз и порчу в Петербурге, шаман ей сказал, что ситуация очень тяжелая, у Вити комплекс вины перед бывшей женой и дочкой, так Гуйяна узнала, что у Вити уже были жена и дочь, а он ей говорил, что она его первая любовь. И эта вина материализовалась через избыточное давление в его мозгу, которое появлялось, когда он пил ликеры. У Вити, оказалось, и любовница была, жила где-то на Васильевском, на набережной недалеко от Академии Художеств, и он, когда напивался, ехал ночевать к ней, потому что Гуйяна уже его домой не пускала, она сменила замок. И опять получилось так, что она осталась одна, а ей нужно было на кого-то опереться, они с подругой-буряткой Лерой часто вечерами говорили о жизни, она делала плов с овощами и подсыпала туда немного красной пищевой анаши, а потом они пили чай, тоже красного цвета, и понемногу отъезжали.
Лера познакомилась с грузином, его звали Нодари, такой красавец, просто обалденный, в белых брюках и белом пиджаке, черная с проседью борода, стриженые ежиком волосы, золотая цепь на руке, совершенно реальный грузин.
Он стал жить у Леры, она даже его к себе прописала, иначе ему приходилось ходить в паспортный стол и продлевать себе временную прописку, а зачем это делать, если они все равно скоро поженятся. А Гуйяну Лера познакомила с Гиви, другом Нодари, потому что Гуйяне было очень одиноко, и она тосковала. Сам Гиви был невысокий, Гуйяне даже сперва показалось, что плюгавый, но с очень красивыми глазами, это Лера первая заметила и сказала Гуйяне, а когда Гуйяна присмотрелась, то да, действительно, глаза божественные, такие черные, глубокие, кажется, что смотрят тебе прямо в душу. У Гиви пока денег не было, но зато на границе с Грузией стояли два нерастаможенных мерседеса, и Нодари, у которого были связи в ФСБ, обещал ему в ближайшее время помочь решить этот вопрос. Гиви собирался купить ларьки у станции метро «Проспект Ветеранов», чтобы торговать там фруктами, их ему должны привозить из Грузии. В Тбилиси у Гиви была жена и двое детей, но он с женой уже давно не жил, любовь прошла, и они расстались, но развод он не оформил, не успел, поэтому с Гуйяной сразу сочетаться браком не мог, и прописать его к себе Гуйяна тоже не могла, к тому же, у нее был пока что прописан Витя.
Гиви научил Гуйяну готовить настоящий шашлык, как это у них в Грузии делают, ведь в шашлыке главное это мясо, ну и приправы, конечно. В роду у Гиви были одни князья, и он никогда не врал, он был благородным человеком, таких теперь редко встретишь. У Гиви уже был овощной магазин в Мурманске, и он отправил туда один грузовик с морковью, капустой и репой, но машина по дороге вообще пропала, сперва ее на таможне задержали, и Гиви очень волновался, что товар сгниет, а таможенники требовали какие-то бешеные бабки, потом удалось договориться, но в результате грузовик просто пропал, как будто в Бермудском треугольнике канул. Гиви поселился у Гуйяны, он очень подружился с ее дочкой, и она вскоре выучила все грузинские ругательства, и даже говорить стала с грузинским акцентом, Гуйяна уже давно замечала, что у девочки способности к языкам, она все запоминала с первого раза. А тут вдруг появился Витя, его выгнала любовница, и он пришел обратно к Гуйяне, идти ему было некуда, первая жена его тоже не хотела принимать. Гуйяне пришлось его впустить, но тут пришел Гиви, и у них состоялся настоящий мужской разговор, Витя полез в драку, но Гуйяна его остановила, ведь кулаками ничего не решишь. Тогда Витя стал наезжать на Гуйяну, что ей нравится пилиться с грузинами, а он ее по-настоящему любил, но теперь это его о многом заставило задуматься, но он не уйдет, потому что это его дом, и он сильно привязался к девочке. Тогда Гиви решил с Витей по-хорошему договориться, мол, бла-бла-бла, любовь проходит и уходит, а дети здесь не причем, они должны жить нормальной жизнью, и взрослые проблемы не нужно на них перевешивать. Витя согласился и ушел, ему нужно было забрать свои вещи от любовницы и переехать обратно, но он так и не вернулся, его не было неделю. А потом как-то рано утром Гуйяне позвонили из милиции и пригласили опознать тело. Витю нашли в машине у дома на Университетской набережной, он сидел на переднем сиденьи, рядом с местом водителя, и все вокруг было усеяно пробками от пивных бутылок, а самих бутылок не было, значит, их кто-то уже успел забрать, хотя милиционеры уверяли, что ничего в машине не трогали.
Когда Гуйяна увидела тело Вити, с ней случилась истерика, она стала рыдать и кричать, и ничего не могла с собой поделать. Оказывается, Витя приехал поздно ночью к любовнице, а она ему дверь не открыла, потому что он был пьяный в хламину, и он спустился вниз и остался ночевать в машине, но ведь в таком состоянии он вообще не смог бы даже передвигаться, не то, что машину вести, значит, его кто-то довез. Врачи констатировали смерть от алкогольного отравления, и это никого не удивило, Гуйяна тоже в этом не сомневалась, ей, конечно, было жалко Витю, но он, сволочь такая, и раньше пил, а ей с дочкой хотелось спокойной жизни. Тетя Гуйяны тогда была в Питере, она сказала, что все это очень подозрительно и наверняка Витю замочили эти грузины, чтобы он им не мешал. Гуйяна на нее тогда так орала, так орала, даже охрипла, у нее даже припадок случился, и тетя отпаивала ее валерьянкой. Ведь милиция же сказала, и врачи подтвердили, это была случайная смерть, к тому же, Витя был болен, у него мозг не мог выдержать такого количества алкоголя и чувства вины перед свой прежней женой, которая у него была до Гуйяны.
Гиви теперь привез к Гуйяне еще и своего брата, очень худого, он все время кашлял, оказалось, что у него туберкулез. Гуйяна как это узнала, так сразу на дыбы, мол, девочка может заразиться, ведь туберкулез — это не шутки, но брат не мог так сразу уехать, у него не было денег и даже теплой одежды, а уже начинало холодать. Гуйяна собрала денег и дала ему, чтобы он уехал к себе в Тбилиси, она даже дала ему витину хорошую дубленку, чтобы он только уехал, но он обещал ей все это вернуть, вот только подлечится у себя в Грузии хоть пару месяцев. А Гуйяна уж и не думала об этом, была рада, что от него избавилась, ведь он всюду туберкулезные палочки сеял. А тетя Гуйяны приехала в Петербург пожить, немного отвлечься, деньги у нее были, и она вложила в МММ двести тысяч, а получила аж миллион, съездила отдохнуть на Крит, купила себе новую шубу. Гуйяне же Гиви обещал, что они скоро тоже поедут отдыхать в Арабские Эмираты, вот только он растаможит свои два мерседеса, Нодари ему должен в этом помочь. Нодари уже продал лерину квартиру, которую она оформила на него, он пообещал ей купить новую, побольше, на Петроградской стороне с ванной, джакузи и чуть ли не бассейном, и с настоящим камином, который топят дровами. Лера очень волновалась, где же они будут доставать дрова, ведь это лишние проблемы, и еще что из-за бассейна могут повредить дом. Она слышала ужасную историю, как один «новый» решил устроить у себя в квартире бассейн, но когда на третий этаж подняли несколько тонн цемента и песка, неожиданно обрушился потолок в нижней квартире и, вообще, весь дом перекосился. Пока что Нодари поехал в Тбилиси, его срочно вызвали по делам, и Лера временно жила у родителей за шкафом в тесной комнате в коммунальной квартире.
***
Первое заседание суда должно было состояться уже через неделю, когда марусина мама позвонила ей и сказала, что она навела справки, и Маруся ни в коем случае не должна идти в суд одна, без адвоката, так как тогда она обязательно проиграет, об этом ей сообщила Ольга Николаева, которая жила в соседнем подъезде маминого дома, она тоже училась с Марусей в одной школе, только на год старше, и была круглой отличницей, а теперь работала народным судьей, Николаева также пообещала найти Марусе хорошего адвоката, для этого ей нужно было прийти к ним в консультацию на Суворовский, там Маруся и познакомилась с Комаровой, которая теперь должна была вести ее дело в суде по просьбе Николаевой.
Комарова сразу произвела на Марусю какое-то странное впечатление, в ее лице было что-то лисье и ускользающее, что-то такое, что никак невозможно было поймать и зафиксировать. Она сразу же посетовала на то, как в этом мире не везет талантливым людям, которые постоянно должны сталкиваться со всякими прохвостами и переживать из любви к искусству все мыслимые и немыслимые унижения, а может быть, и того хуже, потому что практически все самые талантливые люди, начиная с Меня, Холодова, Листьева, Талькова и кончая Старовойтовой были к настоящему моменту в России уже убиты, причем все они, по ее мнению, пострадали исключительно за талант, какие бы там слухи и сплетни ни распускали вокруг этих убийств средства массовой информации, уж она-то в этом не сомневалась. Николаева представила Марусе Комарову как очень опытного и цепкого адвоката, которая, к тому же, что тоже было немаловажно, находилась в очень тесных отношениях с судьей Савицкой, которая вела дело Маруси и которую Комарова знала чуть ли не с пеленок. Первым делом Комарова стала дозваниваться до Серафима и даже, вроде бы, договорилась с ним о встрече, но он почему-то в последний момент передумал и захлопнул входную дверь перед самым ее носом, что привело ее в настоящее бешенство, она даже сказала Марусе, что теперь она его уничтожит.
Потом, правда, ей все-таки удалось несколько раз встретиться с Серафимом и обсудить с ним некоторые детали, после чего ее отношение к нему, как могла заметить Маруся, постепенно изменилось на диаметрально противоположное, во всяком случае, Маруся больше не чувствовала в ней такой непреклонной воли и энергии, как в начале, более того, у Николая Корзуна, который уже подписал с Марусей договор на издание Селина, на днях неожиданно раздался звонок из издательства Серафима, в котором то ли редактор, то ли корректор, причем не по поручению своего главного редактора, а просто по своему личному желанию, из симпатии к Корзуну, предупредил его, что эта книга уже вот-вот выйдет в издательстве Серафима, так что тот напрасно связался с Марусей, до добра его это не доведет. Корзун был не согласен с этой точкой зрения, но все-таки, на всякий случай, решил сам позвонить Серафиму.
Серафим сразу же выразил глубокое недоумение, как такому просвещенному и утонченному человеку, как Корзун, могло вообще прийти в голову издавать Селина, ведь это же фашист и человеконенавистник, перевод которого теперь просто жег руки Серафима, отчего он даже спокойно о нем говорить не мог, к тому же он недавно окрестился и принял православие, ему было так стыдно, что своему напарнику и соиздателю Сокольскому, честнейшему человеку, морскому офицеру и гениальному писателю, он до сих пор даже не решился признаться, в какую авантюру по своей неопытности и непросвещенности он того вовлек, да и Марусю он напрасно убедил переводить Селина, даже дал ей книгу Селина, которую перед тем купил в Париже на собственные деньги, Маруся ведь до встречи с Серафимом о Селине знала еще меньше, чем Серафим, поэтому и перевод у нее получился на уровне подстрочника, над которым ему самому пришлось еще много поработать, доводя его до кондиции, потому он имел теперь полное право даже поставить на этом переводе свое имя, но как глубоко верующий человек он этого делать не стал — пусть переводчицей считается Маруся. Зачем ему пачкать о Селина свое имя?
Но Корзун должен иметь в виду, что, так как этот перевод Маруся выполняла в качестве служебного задания для их издательства и была даже оформлена у них на ставку переводчицы, то все права на этот перевод теперь по закону пожизненно принадлежат их издательству — любой суд ему это подтвердит…
Такая трактовка событий оказалась совершенно неожиданной для Корзуна, и он на следующий день встретил Марусю в очень мрачном расположении духа. Действительно, если все было так, как говорил Серафим, то даже если по сути это было не так, а только по форме, все равно, действительно, получалось, что у них с Марусей в суде нет никаких шансов. Марусе тоже никогда раньше в голову не приходило ничего подобного, тем более, что перевод Селина она закончила еще за два года до встречи с Серафимом, ей все это казалось совершенно абсурдным, однако Корзун, кажется, так не думал, потому что он в тот же день вернул Марусе свой экземпляр договора и попросил ее подписать специальный акт о его немедленном расторжении. Маруся вынуждена была это сделать, потому что даже денег от Корзуна она еще никаких не получила, так что, в сущности, на данный момент их ничего больше не связывало. В суде она теперь осталась совершенно одна, без «прикрытых тылов», один на один с судьей и Серафимом, правда, ей обещала свою поддержку Комарова, но Марусе очень не нравилось, что информация о ее намерении издать Селина у Корзуна, о которой знали до самого последнего времени только он и она, стала известна Серафиму вскоре после того, как она поручила вести свои дела Комаровой.
***
Костя не советовал Марусе отказываться от услуг Комаровой, какую бы информацию кому она ни передавала. Им, по его мнению, она еще пригодится, и прежде всего, он считал очень ценной ее годами нажитую и обкатанную в столкновениях с жизнью глупость, которая, как поздний зимний снег или вода после долгого тропического дождя, толстым слоем покрывающие поверхность земли, должна была немного смягчить удар, в тот момент, когда они с Марусей упадут с большой высоты и ударятся о гранитную тупость судьи — без Комаровой, что бы она там ни вытворяла, они запросто могут и разбиться.
На всякий случай, со своей стороны, Костя тоже решил слегка подстраховать Марусю и согласился пойти с ней на первое заседание суда, которое должно было состояться уже буквально через два дня.
Однако Маруся никак не могла успокоиться, ведь она, чтобы тоже немного подстраховаться, даже пообещала устроить Комаровой приглашение в Париж, город ее мечты, в котором она хотела побывать с самого детства, а у Маруси как раз там был в Буа-Коломб замечательный знакомый, потомственный аристократ, который с радостью ее у себя примет, причем совсем даром, и она там будет жить в одном из самых комфортабельных пригородов Парижа в уютной светлой комнатке, где ее, возможно, даже будут кормить, так что она не могла до конца поверить в то, что Комарова ее, несмотря на все эти перспективы, решила подставить. Что мог предложить ей Серафим, да и что вообще могло быть лучше Парижа?
Костя же считал, что она совершенно не права, ибо то, что Комарова так заинтересовалась Парижем, по его мнению, было классическим трюком из числа тех, что он в изобилии наблюдал все в тех же детективных фильмах, где один герой, чтобы предельно усыпить бдительность другого, чаще всего, именно и внушал ему, что он в нем очень заинтересован, а когда тот полностью успокаивался и не волновался, как раз в этот момент его и кидали, в том числе и адвокаты, которые тоже часто фигурировали в подобного рода фильмах. Адвокат с опытом Комаровой, а ей уже было за пятьдесят, за долгие годы своей практики, по мнению Кости, просто не могла не усвоить этот простейший прием.
Костя его называл «зеркальной страховкой», так как в данном случае человек, желая усыпить бдительность другого, добивался, чтобы тот приписывал ему собственные чувства, то есть, как бы видел в нем самого себя, как в зеркале, в результате чего его уже было гораздо проще кинуть, подставить, опустить или даже замочить. Поэтому Маруся со своим Парижем, по его мнению, здорово лопухнулась, так как она явно недооценила меру изощренности Комаровой, предложив ей такую простую материальную вещь, как Париж. Маруся, судя по всему, все еще витала в облаках, неужели она не понимает, чего та на самом деле от нее ждала, а ведь Комарова сразу же ей на это намекнула, при первой встрече, когда сказала, что Листьева, Старовойтову и других убили за талант, то есть она ждала от Маруси, чтобы и она тоже прежде всего оценила в ней ее талант адвоката, ее профессионализм, опыт и цепкость. А Маруся, наверное, решила, что Комарова, пресытившись ложными ценностями европейской цивилизации, стремится к вещам попроще, и, может быть, вслед за Гогеном не прочь отправиться даже к дикарям на Таити, именно поэтому теперь, со своим Парижем, Маруся и оказалась у нее на крючке, Костя был в этом убежден.
Конечно, все эти тонкости, всю эту диалектику человеческой души не так просто понять, но ведь был же старый проверенный способ, в котором в чистом виде воплотилась идеальная модель все той же «зеркальной страховки», и Марусе, как переводчице Селина, стыдно о нем не знать — Костя имел в виду, конечно же, любовь, то есть Марусе, не вдаваясь в тонкости ее психологии, достаточно намекнуть своему адвокату, что она ее очень любит, причем не просто любит, а любит, как саму себя, не меньше, тогда та сразу же бы почувствовала, что Маруся в ней очень нуждается, и уже сейчас была бы в полной марусиной власти, и Маруся могла бы с ней делать, что хотела, а пока своими топорными действиями и Парижем Маруся только все испортила…
А ведь в тех же детективных фильмах и триллерах, которые за последние годы в огромном количестве посмотрел Костя, в течение многих месяцев тщательно готовившееся ограбление банка или какой-нибудь кровавый грабеж с убийствами, или еще что-нибудь в этом роде в самый последний момент могли вдруг неожиданно пошатнуться или даже совсем рухнуть, окончиться полным провалом, ничем, если в душу одного из соучастников этих грандиозных кровавых преступлений, уже унесших жизни дюжины полицейских и мирных обывателей, вдруг закрадывалась хотя бы тень страшного сомнения, что другой или другая его не любит, потому что тогда неожиданно прозревший герой или героиня сразу же с легкостью швыряли с таким трудом добытые миллионы долларов, чаще всего они, заливаясь слезами, выбрасывали их из окна последнего этажа небоскреба либо уносящегося вдаль на огромной скорости автомобиля, и все из-за любви — вот какова была ее волшебная сила, о которой Маруся, видимо, совсем забыла в своем общении с адвокатом.
И поэтому теперь Маруся, по мнению Кости, вплотную приблизилась к последней черте, переступать за которую он ей очень не советовал; приближаться к «краю ночи», как это делал тот же Селин — это одно, это даже забавно, так и должен поступать настоящий денди-сверхчеловек, но переступать за эту черту не стоит.
Впрочем , Костя считал, что, возможно, эта метафора с ночью в случае с Марусей не очень удачна, так как у Селина, человека более южного, уроженца Франции, к тому же некоторое время жившего в Африке, ночь все-таки ассоциировалась, прежде всего, с тиграми, ядовитыми змеями и кровожадными крокодилами, а Маруся в Петербурге привыкла с детства созерцать по ночам, главным образом, разведенные мосты и красивые городские пейзажи, а такое созерцание, по его мнению, было достаточно опасно, особенно в детстве, так как границы между днем и белой северной ночью сильно размыты, что Костя считал очень важным, так как эти бессознательные и, вроде бы, незначительные детские впечатления и образы, на самом деле, могли сыграть с Марусей очень злую шутку, потому что в последнее время ему все чаще начинало казаться, что Маруся, как младенец, путает день с ночью, а ведь ни папа, ни мама ей сейчас уже больше не помогут, и она в этом мире, и в этом городе белых ночей совершенно одна…
Маруся вообще, по его мнению, сильно недооценивала человеческую изобретательность, может быть, в силу того, что слишком много внимания уделяла таким ничтожным вещам, как интеллект, начитанность и образование. По его мнению, пока Маруся сидела в библиотеке и занималась переводами, миллионы людей во всем мире не теряли времени даром, извращались и развлекались, как могли. Он, например, исследуя словарь арго, обнаружил множество незнакомых для себя понятий и слов, из чего делал вывод, что в современном мире нет такого рода деятельности, преступления, извращения, самого невероятного и неслыханного, какое только можно себе представить, которое люди не только бы к настоящему моменту уже не совершили, но фактически на каждое из них в языке, во всяком случае, в русском, уже существовало определенное название, а это значило, что уже были и те, кто занимался этим видом деятельности профессионально.
Знает ли, к примеру, Маруся, кто такой «минер»? А так на жаргоне называют того, кто собирает монетки в фонтанах и водоемах, куда бросают их заезжие туристы для того, чтобы потом вернуться назад; то есть даже в такой незначительной, вроде бы, сфере, о которой она, наверное, даже и не задумывалась, существуют профессионалы, а значит, между ними должна быть и определенная конкуренция и борьба за право собирать монетки в том или ином фонтане, или на той или иной его части, причем борьба не менее напряженная, чем та, которую она ведет за свое существование, например, в литературе.
Наличие таких совершенно новых для него слов сразу же навело Костю на мысль о том, что в современном мире, вообще, накопилось огромное количество неучтенных и вытесненных на периферию жизни слов и имен, которые давно нужно было бы «привести в соответствие», как на том настаивал еще Конфуций, то есть их необходимо осмыслить и ввести в более широкий обиход. Такая борьба вокруг различных сфер влияния, которые совершенно не пересекались между собой, незримым образом происходила в этом мире постоянно, и если, к примеру, Маруся не знает до конца, чем живут и о чем думают вьющиеся вокруг горящей лампы комары и мухи, то она, по крайней мере, их видит, если же она, к примеру, едет в трамвае или в троллейбусе, то она и не подозревает, что в этот момент кто-нибудь обязательно уже нацелился на ее карман, в то время как сидящий рядом с ней алкаш, вдруг неожиданно завопивший на весь трамвай будто бы приснившуюся ему вдруг песню, вовсе не Иван Иванович Тюлькин, как он всем только что сообщил, а самый настоящий «ширмач — именно так называют на жаргоне человека, прикрывающего действия вора-карманника, каковым, по мнению Кости, мог оказаться и интеллигентный мужчина в очках, вежливо осведомившийся у Маруси, который час, и вообще, кто угодно; третий же в этот момент в другом конце трамвая может поднять громкий скандал, что у него из кармана вытащили, например, кошелек, или кто-то ему наступил на ногу, и все только для того, чтобы Маруся, повернувшись и посмотрев в ту сторону, отвлеклась от своего кармана, более того, в это мгновение в другую дверь может проникнуть конкурирующая пара или тройка таких же профессионалов, случайно забредших на чужую территорию, и в такие мгновения не только Маруся, но и никто из пассажиров, наверное, не думает, какой опасности они себя подвергают, ибо как раз находятся на линии столкновения двух различных группировок, так как в этот момент их трамвай пересекает столь же незримую границу их владений.
В свою очередь, никто из них тоже не подозревал и не подозревает до сих пор, что они собирались только что вытащить кошелек из кармана у знаменитой писательницы, очередь поклонников на презентацию книги которой выстроилась от Публичной библиотеки аж до самого Невского, она для них еще более незрима и неосязаема, чем комары и мухи для Маруси; чем она живет, о чем пишет, они не узнают вообще никогда, так как напомнить о своем существовании Марусе они могут хотя бы лишив ее кошелька, возможностей же напомнить им о себе у таких, как Маруся, нет и не будет никогда.
А вообще-то, Костя считал, что Маруся напрасно забивает себе голову тем, что в это время на уме или на душе у Комаровой, если она говорит, что заметила в ее лице что-то лисье, то на эту ее черту ей и следовало бы обратить особое внимание, во всяком случае, сам Костя не был большим специалистом по этим зверькам, поэтому он предлагал съездить Марусе куда-нибудь в отдаленную лесную деревушку и побеседовать там с местными охотниками; только там, уверял он Марусю, она может получить исчерпывающую информацию, какую только можно, об особенностях характера и поведении Комаровой, а так ей пока придется ограничиться сведениями на уровне сказки про Колобка, потому что, насколько он помнит, именно лиса там его съела.
Маруся тоже, кстати, Косте всегда чем-то напоминала Колобка, может быть, своими румяными щеками и круглым улыбающимся лицом, именно это внешнее сходство Маруси с Колобком больше всего и тревожило Костю, не внушая ему особого оптимизма и надежд на благоприятный исход ее дела. Если она так благополучно улизнула от бабушки в Жмеринке, из Парижа от замечательного французского аристократа, которого она теперь рекомендовала Комаровой, послала на три буквы Опухтина и Сеню из «БУ», ускользнула от ЕРС, ФСБ в лице Китоновой и восьмичасового рабочего дня в «Новом Резонансе», и еще много откуда и от кого — всего и всех Костя даже не мог перечислить — в том числе, и от него самого, когда он в безумном состоянии хотел ее обнять и поздравить с тем, что она является белокурой бестией. Но все это теперь ровным счетом ничего еще не значит, и от Комаровой и Серафима Марусе уйти будет не так просто… О себе в прошлом Костя говорил как о ком-то другом, потому что еще Киркегор справедливо заметил, что разные периоды жизни человеческого «я» могут отделяться друг от друга непреодолимыми разрывами, пропастями, отчего тот же самый человек мог, в сущности, не иметь никакого отношения к тому, чем он был раньше…
К тому же и на самом деле, всерьез, Комарова сообщила Марусе, что Серафим собирается подать на нее встречный иск, но только уже не по гражданскому, а по уголовному делу, за подделку и кражу документов, так как она, якобы, несколько раз подделывала подписи у них в ведомостях на зарплату, получая деньги сразу за пятерых, а также выкрала у него расписку за те шестьсот долларов, которые он выплатил ей год назад из рук в руки. Но пока, правда, он никаких исков не подал, просто Комарова советовала Марусе хорошенько подумать, прежде чем продолжать свою тяжбу с Серафимом. Поэтому, для того, чтобы Марусю не взяли под стражу прямо в зале суда, а такие случаи бывали, например, с Николаем, которого жена засадила в Кресты на шесть месяцев, и Маруся это хорошо знала, поэтому Костя и собирался с ней туда пойти, чтобы ее подстраховать, но для этого Косте надо было предварительно хорошенько подумать. Что ему, например, на себя в этот день надеть? Костя был согласен с Русланом — ко всему нужно подходить профессионально.
Может быть, кожаную куртку марусиного отца, которую она ему подарила, или это будет слишком? Ведь когда он пришел в этой куртке вместе с Марусей к Родиону Петровичу и Ванечке, то сразу же понял, что, пожалуй, перебрал через край, потому что они все время смотрели на него, как загипнотизированные, Маруся должна была согласиться, что это действительно было так.
Что касается отцовской кожаной куртки, которую тот в свое время привез себе из Англии, то она Косте действительно шла, и Маруся отчетливо запомнила, например, как Торопыгин, когда они с Костей были у него в гостях в Москве, сильно напившись и едва ворочая языком, пробормотал что-то вроде того, что в этой куртке Костя похож на истинного арийца и еще поинтересовался у Маруси, где она ее ему купила, наверное, в Париже.
Нет, куртку для этого случая Костя считал не самым подходящим нарядом, настоящий денди-сверхчеловек должен быть одет, по возможности, небрежно, и мера этой небрежности, считал Костя, должна измеряться и варьироваться в зависимости от степени приближающейся опасности, иногда такая небрежность, в минуты наивысшего риска, должна становиться максимальной, правда, она никогда не должна была переступать последней черты и превращаться в обычное уродство, так что в данной ситуации, когда опасность достаточно велика, куртку Костя считал совершенно неподходящей, она больше подходила для какой-нибудь дружеской вечеринки и тусовки, во время которых, конечно, тоже нельзя полностью расслабляться, но ведь и куртка тоже была уже слегка потертой и поношенной, но для суда она все-таки является слишком приличной и впечатляющей.
Игрушечный мобильный телефон, который сначала хотел, было, взять с собой Костя, он тоже почти сразу же отверг, хотя сначала он даже нарисовал Марусе замечательную картину, как во время заседания суда у него в кармане вдруг неожиданно зазвенит мобильный телефон, и он начнет сразу же говорить по нему и исключительно по-французски, точнее, скажет несколько фраз, которые Маруся ему предварительно напишет, а он их заучит, и какое это должно на всех произвести там впечатление, особенно на судью и Комарову, потому что французская речь, по мнению Кости, в отличие от английской, еще сохранила свое прежнее магическое воздействие, когда по-французски говорили исключительно господа, а судья и Комарова, по мнению Кости, должны были, во всяком случае, на бессознательном уровне, сохранить в себе память своего лакейского происхождения, потому что у людей, как и у собак, существуют определенные породы, и как охотничья собака и сторожевая разнятся друг от друга на уровне инстинктов, которые оказываются более значительными, чем черты ее индивидуального характера, так и у людей родовые свойства куда сильнее индивидуальных, причем это касается даже гениев, например, Блок, будучи по происхождению немцем, за всю свою жизнь, как известно, педантично не выбросил ни одного своего черновика, ну и так далее, Костя даже не хотел особенно вдаваться в подробности, настолько это для него было очевидно, а уж о таких «простых» людях, как судья и Комарова, и говорить нечего, французская речь должна была их сразу же загипнотизировать, и они бы прямо плюхнулись перед Костей на колени…
Но потом он решил отказаться от этой идеи, потому что среди ближайших предков судьи и Комаровой вполне могли оказаться пламенные революционеры, подпортившие их лакейскую породу, и тогда бы им с Марусей не поздоровилось, они бы даже могли почувствовать к ним классовую ненависть, а Серафим и Сокольский, в силу своего классового чутья, тоже могли это сразу же разнюхать и этим как-нибудь коварно воспользоваться, поэтому игрушечный мобильный телефон, который Костя уже даже зачем-то купил в магазине, и этот трюк с французским языком он решил пока отложить.
В конце концов, Костя остановился на том, что он придет в суд в очках, пиджаке и галстуке, то есть предстанет перед судьей в виде полного, стопроцентного кретина, точнее, интеллигента, что для Кости было фактически синонимами, так как Костя реально оценивал свои возможности на данный момент, и предстать перед судьей в виде члена Союза писателей или депутата, например, он бы не смог, он еще до такого совершенства — а по его мнению, это был верх дендизма — не созрел, во всяком случае, он не был до конца в себе уверен, а рисковать ему не хотелось, так как на карту было поставлено марусино благополучие. От слова же «интеллигент» Костю, как он сказал, за всю его жизнь не покоробило только однажды, в детстве, когда он смотрел фильм «Чапаев», и там белогвардейцы шли в психическую атаку, а Чапаев и Петька, сидя за пулеметом, со скрытым восхищением говорили: «Красиво идут! Интеллигенция!»
***
Однако в суде все сразу пошло как-то не совсем по плану, еще в коридоре, перед залом заседаний, Костя и Маруся натолкнулись на Серафима и Сокольского, которые пришли в сопровождении своего адвоката, от которого сильно несло перегаром, внешне они выглядели какими-то растерянными, Серафим был в ярко-красном пуховике, а Сокольский в черной нейлоновой курточке, казалось, в этом отношении они совершенно к суду не подготовились, увидев их, Костя даже сразу почувствовал себя чуточку увереннее, потому что на него тоже очень гнетуще действовала общая атмосфера здания суда, он явно нервничал и пытался сосредоточиться на том, что он будет во время заседания говорить.
Комарова, по его замыслу, должна вообще молчать, важно ее нейтрализовать, она должна находиться у них за спиной в качестве фона и строгой тетеньки, которая знала судью с детства, и всем своим видом напоминала ей, чтобы та особо не шалила. Всячески нейтрализовать Комарову поручалось Марусе, которая тоже не должна была ничего говорить, даже по-французски, а просто сидеть с ней рядом, и как только она откроет рот, сразу же начинать говорить с ней одновременно, в два голоса, чтобы было невозможно понять ни ту, ни другую. Предварительно Костя тщательно проинструктировал на этот счет Марусю и даже обещал ее строго наказать, если она не справится со своей ролью, точнее, он сказал, что жизнь ее тогда накажет сама, потому что, если хоть одно слово Комаровой долетит до уха судьи, мало Марусе тогда не покажется: она сразу же могла отправляться домой сушить сухари.
Однако уже в зале суда Костю подстерегала очень неприятная неожиданность. Серафим вообще туда не пошел, а остался в коридоре и заглядывал внутрь через щелку в двери, видимо, у него не было особых иллюзий насчет своей внешности, бесформенного жирного тела и беспокойно бегающих глаз, и он не рассчитывал сразу же расположить судью к себе, а может быть, он просто считал, что его присутствие там даже не понадобится, ибо в зале суда его напарник, Сокольский, тот самый «честнейший человек и гениальный писатель», о котором он говорил по телефону Корзуну, неожиданно скинул свою невзрачную черную курточку и предстал перед ошеломленной судьей в парадном мундире капитана второго ранга военно-морских сил России, вся грудь его была украшена всевозможными знаками отличия и медалями.
Костя, очевидно, был совершенно не готов к такому повороту событий, во всяком случае, на протяжении всего заседания, как показалось Марусе, он явно переигрывал в роли растерянного интеллигента, к которой он так старательно и долго готовился заранее. Судья, квадратная сорокалетняя женщина, не отрываясь, смотрела на Сокольского, который почти все время говорил без умолку, демонстрируя какие-то многочисленные бумаги, свидетельствующие, что Маруся работала у них и выполняла перевод по служебному заданию, многие из этих бумаг Маруся видела впервые, некоторые были откровенно состряпаны прямо к суду, что было видно даже невооруженным взглядом, а смысл некоторых Марусе был, вообще, непонятен. Например, в одной было написано, что Маруся в течение шести месяцев работала у них в издательстве переводчицей над подготовкой подстрочника перевода романа Селина, который был предоставлен ею точно и к намеченному сроку, за эту свою работу она получила, кажется, сто рублей, на что тоже было указано в ведомости, в которой, действительно, Маруся с изумлением обнаружила, вроде бы, свою настоящую подпись, так как, насколько она помнила, все деньги ей обычно выплачивались безо всяких ведомостей, и она там никогда не расписывалась, может быть, кроме этого одного раза за сумму в сто рублей. Однако, даже эта двусмысленная и витиеватая фраза о том, что Маруся работала в их издательстве над подстрочником, а предоставила им, вроде как, уже готовый перевод романа, позволила Сокольскому как-то незаметно сместить акцент и перескочить с подстрочника на роман, и дальше все время аппеллировать уже именно к переводу романа, который она, якобы, им и предоставила за сто рублей…
Судья слушала его как зачарованная, она ни разу не прервала его за все это время, а об остальных вообщее будто забыла, нейтрализовывать Комарову Марусе тоже совсем не пришлось, потому что та тоже сидела в углу с отвисшей от изумления челюстью. Адвокат Сокольского ерзал на стуле и развязно хихикал, ему почему-то было очень весело, Маруся также видела, как в приоткрытую дверь периодически просовывалась голова Серафима, который, видимо, хотел удостовериться, все ли в порядке, и с нетерпением ждал результатов их гениального хода с переодеванием в моряка. Только в самом конце заседания судья, как будто, вспомнила и про Костю, который несколько раз пытался что-то возразить, но его всякий раз грубо прерывали, она наконец-то предоставила ему слово. Костя попытался объяснить, что подстрочник — это техническая работа, и никакого отношения к роману, то есть к конечному результату марусиного труда, не имеет, тем более, что и заплатили за него ей всего лишь смехотворную сумму в сто рублей, как за работу машинистки или наборщицы, а чтобы окончательно убедить в этом судью, он напомнил ей процесс Бродского, где все, если она помнила, даже рассмеялись, когда узнали, что тот работает над переводами по подстрочнику… Однако в этот момент судья опять прервала Костю, не дослушав его до конца, и снова говорить начал Сокольский…
Сокольский, вроде бы, когда-то плавал на подводной лодке, а может, просто служил интендантом, точно Маруся не знала, она что-то слышала о нем от Торопыгина, который также очень хвалил ей его расказы, посвященные морю и морской службе. Один из его сборников Серафим сразу же подарил Марусе, как только они познакомились, он уверял, что книги Пети, выпущенные в их издательстве, «расходятся, как горячие пирожки».
Маруся наугад пробежала глазами несколько рассказов, из которых особенно ей запомнился один, про собаку, такую огромную собачатину, которую матросы нашли на берегу и привели на корабль, где, прямо в море, она ощенилась, затем целыми днями собачатина лежала на палубе, на солнышке, а щенки сосали ее молоко, так продолжалось до тех пор, пока боцман не схватил за шкирку и не выбросил ее щенков за борт, после чего матросик-первогодок в избытке чувств бросился за щенками и достал их, но они уже сдохли, а собачатина вскоре тоже сдохла от горя, в конце матросик рвал на груди тельняшку и наезжал на боцмана с воплями: «Ненавижу! Всю жизнь ненавижу!«,- рассказ так и назывался «Собачатина».
В остальных рассказах, судя по беглому с ними знакомству Маруси, Сокольский тоже продолжал обличать царившие на флоте нравы, черствость, воровство, пьянство и матерщину. Правда, некоторые особо крутые капитаны и мичманы вызывали у него, судя по всему, более противоречивые чувства, например, на одной странице Марусе попалась фраза, касающаяся непосредственного начальника Сокольского: «Когда он говорил „пошел на хуй“, то на хуй действительно хотелось пойти».
Как-то она говорила по телефону с Игорем Трофимовым, который редактировал в их издательстве Селина, и тот жаловался ей на то, как ему остоебенило редактировать бесконечный бред, который пишет их коммерческий директор, главным образом, ему не нравилось, что Сокольский совершенно не знал русского языка, с которым, по его словам, было плоховато и у Серафима, но не до такой степени — стихи Серафима ему тоже приходилось редактировать. Трофимов раньше занимался Кузминым, писал о нем диссертацию, он считал, что Кузмин, например, тщательно разрабатывал собственную мифологию, создал целый мир, в котором не все было правдой, зато все было до мелочей и тщательно продумано, на этом фоне его особенно раздражала забывчивость Сокольского, который в начале рассказа называл своего героя Лешей, а в конце, всего через две страницы, мог запросто написать: «Ну вот, хорошо прошел денек!» — подумал Гена«. И так постоянно! Все это Трофимову приходилось отслеживать и исправлять.
Когда Маруся расссказала об этом Косте, то он сразу же сказал, что она должна посоветовать Трофимову написать об этом целую книжку «Записки редактора», где он мог бы, как бы невзначай, сопоставить мир того же Кузмина, или еще кого-нибудь из далекого прошлого, с кретином, вроде Сокольского, причем эти сопоставления должны исходить именно из уст загнанного в угол рафинированного интеллектуала, вынужденного этого кретина редактировать за гроши. По мнению Кости, такая книга могла бы стать настоящим бестселлером, мог бы получиться интеллектуальный триллер, «готический Борхес», своим скрытым подтекстом не менее пугающий, чем триллеры про маньяков и убийц. Маруся при случае, действительно, попыталась изложить эту идею Трофимову, но он слушал ее очень невнимательно, так как в тот раз был полностью поглощен рассказом о том, как на даче у своей двоюродной сестры его укусила за ногу овчарка, и теперь он интересовался у Маруси, стоит ему подавать в суд на свою сестру или нет…
***
Маруся видела Гуйяну после того вечера всего раз, она встретила ее неподалеку от метро, когда шла в гости к маме.
Тетя Гуйяны продала свою комнату в коммуналке, где она жила с одним мужиком, с пенсионером, его звали Женя. С Женей она познакомилась в театре, на премьере какой-то оперы, он сидел рядом, у него были красивые голубые глаза, и военная выправка, очень подтянутый, он угостил ее кофе в антракте, потом проводил до дому, а потом она у него поселилась. Он жил один в коммуналке, и тетю Гуйяны к себе прописал, потому что у нее не было петербургской прописки, она же из Якутии приехала. Они так некоторое время жили, а потом он умер — вышел на улицу посидеть на скамейке, и к нему подошли милиционеры, стали проверять документы, но в очень грубой форме, а у него с собой даже паспорта не было, и его забрали в отделение, там он провел весь день, пока тетя Гуйяны за ним не пришла, а он ночью помер, заснул и не проснулся, наверное, от перенесенных накануне волнений, и тетка тогда эту комнату продала, а сама переехала к Гуйяне, одной ей все равно было скучно, а обратно в Якутск она не собиралась. За комнату ей дали семь тысяч баксов, а тут как раз Гиви решил открыть свое дело, купить еще пару ларьков, деньги ему позарез были нужны, и она дала ему в долг эти семь тысяч, ведь она хотела, чтобы Гуйяна была счастлива, она ее любила. Гиви даже обед сам готовил, а Гуйяна только отдыхала, на фига ей были все эти заботы, она и так много пережила за последнее время, а Гиви такой реальный мужик, на него можно положиться, и чем-то даже походил на ее папу, даже в лице было что-то общее. Но они все никак не могли пожениться, в Тбилиси у Гиви осталась жена, и хотя они уже давно жили отдельно, но штамп-то в паспорте у него все равно стоял, и ему нужно было съездить в Тбилиси, чтобы развестись. А в Тбилиси ехать было очень опасно, поэтому Гуйяна не хотела его туда отпускать, пусть уж лучше так, чем с ним что-нибудь случится, и она будет потом на себе волосы рвать. Но все равно, ни фига у Гиви с ларьками не вышло, пошли какие-то разборки, у него требовали бешеные бабки, и все бабки, что тетка Гуйяны дала, ушли, и он снова стал искать бабки, но найти не мог, не было. Тетка Гуйяны все намекала, что, мол, отдай бабки, а он не мог, потом и Гуйяна стала уже открытым текстом говорить, мол, гони бабки, баклажан, а он их уже стал чурками обзывать, в общем, начался открытый конфликт. Гуйяна сказала ему, чтобы он выметался к себе в Тбилиси, но он не хотел, он привык, тогда она пригрозила вызвать ментов, а он в ответ сказал, что позовет своих друзей, а у Нодари связи в ФСБ, так что ей мало не покажется, там в ФСБ настолько крутые люди работают, им совершенно все по фигу, они уже натренированы на все, все зависит от того, как фишки лягут. В общем, Гуйяна предпочла все решить по-хорошему, и стала ждать, чтобы он сам свалил, но он не сваливал, ему было удобно так жить, кроме того, он Гуйяну все же любил, и ее доченьку тоже. А про бабки он говорил, что отдаст, как только заработает, вот отдадут ему крупный карточный долг, и он сразу же вернет Гуйяне и ее тетке эти несчастные семь тысяч. Иногда он не приходил ночевать, где он шлялся, неизвестно, ничего не объяснял, а Гуйяне на фига вообще нужны были эти постоянные его прихваты, лучше бы уж вообще на фиг свалил и очистил помещение. А потом он такую фишку слепил, что ему нужно съездить в Тбилиси, там его доченьки без него скучают, да и флаг тебе в руки, лети, куда хочешь, Гуйяне только лучше, она даже обрадовалась. А бабок у нее не было, к тому же она стала замечать, что стареет, как-то ей все это обрыдло, ну жизнь стала не такая веселая, что ли…
***
Следующее заседание, где, видимо, должно было быть вынесено окончательное решение по делу, должно было состояться уже через неделю, очевидно, судье это дело не казалось особенно сложным, и она решила покончить с ним сразу, одним махом. Маруся после первого заседания чувствовала сильное раздражение и даже злобу на Костю, который надоел ей со своей болтовней, она даже жалела, что взяла его с собой.
Однако вечером, накануне следующего заседания суда, у нее в квартире раздался звонок, звонила Комарова, которая в обычной своей лаконичной манере — она всегда с Марусей по телефону говорила очень коротко — сообщила, что ее просили передать, что завтра заседания не будет, оно переносится на более поздний срок. Вечером следующего дня Костя сам пришел к Марусе и спросил, в чем дело, почему она не явилась на заседание суда, где он сегодня утром был, но никого, кроме Комаровой, которая о чем-то беседовала с судьей, не застал. Маруся сказала, что вчера вечером Комарова предупредила ее, что заседание переносится на неопределенный срок, кажется, из-за того, что суд слишком перегружен. Косте все это показалось очень подозрительным, он настоял, чтобы они с Марусей пошли в канцелярию суда, потребовали дело для ознакомления, на что она имела полное право.
Во время ознакомления с делом Марусе сразу же бросился в глаза какой-то странный перекос — изложение спорной ситуации, написанное адвокатом Серафима и Сокольского, было подкреплено целой кучей всевозможных справок, свидетельств, заявлений, от своего имени же там она обнаружила только свое исковое заявление, отчего папочка с ее документами была совсем тоненькая, а с документами Серафима и Сокольского — внушительного объема, именно ее содержимое и составляло девяносто девять процентов этого дела. Она теперь вспомнила, что всякий раз, когда она предлагала Комаровой предоставить какие-то свидетельства, подтверждающие, например, ее отсутствие в городе или же другие факты, необходимые для доказательства ее правоты, а также того, что перевод Селина был у нее готов уже за два года до встречи с Серафимом, а не выполнялся по его заданию, Комарова всякий раз, как бы ненароком, отклоняла все подобного рода предложения со стороны Маруси и говорила, что это совершенно не нужно, все и так понятно, у противоположной стороны нет никаких доказательств, договоров, документов, и она спокойно, без труда доведет дело до победного конца.
Теперь же Маруся обнаружила, что таких доказательств и документов Серафим представил суду в огромном количестве, в основном, правда, это были ксероксы, а не подлинники, и большинство из них, помимо той злополучной справки о подстрочнике, которая, кстати, в деле была подшита в оригинале, были откровенными фальшивками, далее, сразу же после протокола предыдущего заседания, из последней записи, сделанной рукой судьи, Маруся с глубоким изумлением узнала, что «второе заседание суда было отменено по настоятельной просьбе истца», то есть ее.
Этот факт ее сначала удивил, а потом сильно разозлил, особенно после того, как Костя сказал, что именно после этой фразы у него лично теперь не осталось ни малейшего сомнения в сговоре марусиного адвоката с противоположной стороной, потому что ведь это она сама позвонила Марусе накануне и сказала, что суд переносится, а здесь написано прямо противоположное: заседание перенесено по просьбе Маруси. Костя также настоял, чтобы Маруся немедленно отыскала Комарову и встретилась с ней, лучше даже в той юридической консультации, где работала ее подруга Николаева, которая ей Комарову и рекомендовала.
Придя домой, Маруся сразу же стала звонить в эту консультацию, однако голос секретарши на том конце провода ответил, что Комаровой нет и не будет, но в том, как она это сказала, Марусе вдруг почудился какой-то подвох, нарочитость, как будто секретарша с особым акцентом это произнесла, с каким-то скрытым торжеством и злорадством в голосе. Марусе почему-то показалось, что она говорит неправду, ведь она вполне могла узнать марусин голос, так как Маруся уже раньше несколько раз звонила по этому телефону, и теперь секретарша выполняет указания Комаровой, которая скрылась там где-то в глубине телефонной трубки, и в самом деле, как лиса в своей норке, и ей, Марусе, теперь нужно ее оттуда хитростью, любым способом, выманить, поэтому, выждав полчаса, Маруся, заткнув нос и сильно изменив голос, даже немного с грузинским акцентом, снова попросила Комарову — она действительно оказалась на своем месте. Маруся договорилась с ней о встрече, сказала, что это очень срочно, неотложное дело, кроме того, ей только что на ее имя пришло из Парижа приглашение, и она хочет его ей передать, последний аргумент, видимо, оказался самым весомым, потому что уже через три часа Маруся была у нее в консультации.
Комарова, не моргая и глядя Марусе прямо в глаза, заявила, что это Маруся сама просила ее о переносе суда, совсем как Серафим, когда сказал ей, что уже выплатил ей шестьсот долларов, а Маруся ей ведь об этом тоже рассказывала, такая наглость окончательно переполнила чашу марусиного терпения. Комарова еще хотела что-то добавить, но Маруся даже не стала ее слушать, побежала к Николаевой, прямо в ее кабинет, потребовала начальство, стала шуметь, орать, Николаева едва сумела ее успокоить, Комарова снова хотела что-то ей сказать, но Маруся опять не стала ее слушать, и Николаева тоже просила ее, чтобы та помолчала.
И Маруся сразу же ей все доходчиво объяснила: либо через три дня Серафим принесет ей шестьсот долларов, которые он ей должен, либо она напишет прокурору и во все инстанции, занимающиеся надзором за адвокатской деятельностью, использует все свои журналистские связи, а еще лучше, пойдет к судье вместе с Комаровой, устроит им очную ставку, а возможно, даже и без Комаровой, одна, и тогда она обязательно спросит судью, на каком основании она, судья, сделала запись о том, что суд перенесен по ее просьбе, хотя никакой просьбы с ее стороны никогда не было, причем Маруся собиралась требовать ответа исключительно с судьи, так как запись в деле сделана именно ее рукой, а о том, что это Комарова сама, находясь в сговоре с ответчиками, перенесла это заседание, так как Маруся, действительно, слышала от нее, что те неоднократно выражали такое желание, и им хотелось, чтобы суд был перенесен месяца на три, на осень, после лета, так как они, видимо, все-таки были не совсем уверены в решении суда, кроме того, эта неопределенность их больше устраивала в данный момент, потому что они должны были вот-вот получить крупную валютную дотацию от Министерства Иностранных дел Франции на издание марусиного перевода, и они опасались, что лишний шум вокруг суда и раздраженная Маруся каким-нибудь образом, в том числе используя свои связи в Париже, все это им сорвут. И действительно, они получили право на эту дотацию во многом благодаря личной просьбе Маруси к Франсуа, который, в свою очередь, походатайствовал за них в Министерстве…
Так вот, обо всем этом Маруся даже и не собиралась говорить судье, она вообще об этом ничего не знала, Комарову порекомендовала ей ее школьная подруга, поэтому Маруся себе такого даже представить не могла, и ее претензии отныне будут обращены непосредственно к самой судье, а та уж пусть самостоятельно с ними разбирается, тем более, что судья знакома с Комаровой с детства, поэтому Маруся очень надеялась, что та будет ей очень признательна за то, что Комарова ей так удружила. Правда, дотацию Маруся тоже, на всякий случай, пообещала Комаровой сорвать и попросила ее это тоже не забыть передать своим новым работодателям, на которых она, как это теперь было совершенно ясно Марусе, на самом деле, все это время и работала.
Николаевой она тоже, на всякий случай, напомнила, что ее отец был когда-то большим начальником, и у него до сих пор остались связи в ФСБ, о чем Николаева, которая училась с Марусей в одной школе, прекрасно знала. Если же Комаровой всего этого не хочется, то пусть она в эти три дня немного поработает на нее, использует свои особые отношения с судьей, расскажет о них поподробней своим новым друзьям, Серафиму и Сокольскому, раз уж она о них так заботится и желает им добра, пусть они тоже за эти три дня все хорошенько обдумают…
Через три дня в холле здания суда Маруся и Костя в назначенное время ждали Комарову и Серафима, который, вроде бы, в конце концов, согласился выплатить Марусе деньги, предварительно подписав с ней мировое соглашение, по которому он все-таки отказывался от всех своих прав на Селина, но получал взамен право одноразового издания; сумму, правда, он тоже должен был выплатить не всю, а только половину, триста долларов. Но Костя сказал, что ладно, пусть будет так, все-таки это больше, чем ничего, иначе Маруся в результате не получит ничего, процесс будет тянуться бесконечно, как у Кафки…
Вообще-то, он не очень верил, что Комарова и Серафим явятся в назначенное время, он даже говорил, что, если они придут, то это будет почти, как в кино, и сначала минут десять их, действительно, не было, Костя сказал, что ну вот, он так и думал, все будет, как в жизни, он с трудом себе представлял, что Серафим кому-нибудь так просто отдаст триста долларов. Однако через десять минут появилась Комарова, а за ней почти сразу следом подошел и Серафим, он выглядел очень подавленным, на Марусю и Костю почти не смотрел, они быстро подписали мировое соглашение, и Маруся получила причитающуюся ей сумму.
И только после этого, уже на улице, Костя признался Марусе, что вечером, накануне второго заседания, сам позвонил адвокату Сокольского и Серафима, и предложил ему от ее имени перенести дело на осень, их это вполне устраивало, однако Костя сказал, что у него дома поврежден кабель телефона, и он звонит из автомата на последний жетон, поэтому он сам Марусю предупредить об их согласии не сможет, так что, если тому не очень сложно, то Костя очень просил его, чтобы он оповестил об этом Комарову, а через нее и Марусю, чтобы той понапрасну завтра рано не вставать, мол, все улажено, заседание, как она и просила, переносится, со своей стороны, Костя тоже попробует им каким-нибудь образом позвонить, но так как дома у него телефон не работает, он просто просил их адвоката на всякий случай его подстраховать. Сам он сразу же позвонил тогда еще и Комаровой и тоже повторил ей все свои просьбы по поводу переноса суда, которое он только что согласовал с противоположной стороной, он также попросил ее завтра договориться с судьей о переносе дела, воспользовавшись своими с ней дружескими отношениями.
В это мгновение Комарова немного заколебалась, однако Костя уверил ее, что Маруся на днях обязательно занесет официальное заявление от своего имени, так что все будет в порядке, пусть она не волнуется, он ей это гарантирует, Костя даже дал ей честное слово и готов был дать ей честное пионерское, ленинское, побожиться, поклясться всем святым, что только есть на этом свете…
Он надеялся, что Маруся не будет вникать в то, что скажет ей Комарова, или та не особенно внятно передаст ей эту информацию, да и в самом деле, в таком контексте тогда, кроме факта переноса, Марусе было трудно что-нибудь еще из слов Комаровой понять, а тем и в голову не могло прийти, что такой интеллигентный на вид молодой человек способен шутить с такими серьезными вещами, как суд. А потом уже, если это сработает, Костя не сомневался, что сумеет разыграть спектакль, в который он и вовлек Марусю.
Целью же этого спектакля для Кости было пробудить в Марусе вспышку спонтанной неуправляемой злобы и направить эту энергию против Комаровой, заставив ее, тем самым, выполнить марусину волю. Кажется, теперь он и сам еще до конца не верил, что все так удачно прошло, и его замысел с таким блеском воплотился. Конечно, триста долларов это не шестьсот, но об этом Костя уже, кажется, забыл, так он был доволен гениальным воплощением своего замысла и тем, что Маруся так замечательно исполнила свою роль, правда, сама того не подозревая, а он специально ничего не сказал ей заранее, чтобы все выглядело естественно и натурально, потому что спонтанность и в искусстве, и в жизни Костя ценил все-таки гораздо больше, чем рефлексивность и сознательность, и немецкие романтики поэтому, Новалис, к примеру, ему нравились гораздо больше, чем Гете или же Кант, «Фауст» казался ему надуманным и бесконечно устаревшим, Гейне со своей иронией его раздражал, иронии он предпочитал смех…
На следующий день, чтобы отпраздновать этот неожиданный хэппи-энд, Маруся зашла к Косте с бутылкой шампанского. Он пребывал в таком хорошем расположении духа, что даже снял с окна фанеру, которая отгораживала от него Исаакиевский собор, отчего в его комнате стало гораздо светлее, и Маруся видела вдалеке огромный купол Исаакия, который светился и переливался на солнце золотым светом.
декабрь 2000 г.
Санкт-Петербург