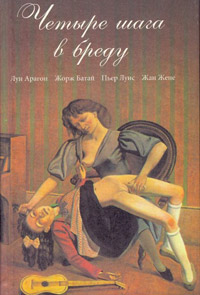ЖОРЖ БАТАЙ
ИСТОРИЯ ГЛАЗА
ГЛАЗ КОТА
Я воспитывался один, и с тех пор, как себя помню, секс занимал мое воображение. Мне было почти шестнадцать, когда на пляже городка Х… я познакомился с Симоной, девушкой примерно моего возраста. Наши семьи связывало дальнее родство, что способствовало нашему быстрому сближению. Через три дня после знакомства Симона и я остались одни у нее на вилле. На ней был черный халатик с накрахмаленным воротником. Я смутно чувствовал, что она разделяет мою тоску, а в тот день на ней, кроме халата, явно ничего не было.
Черные шелковые чулки закрывали ее колени. Я еще не видел ее попку (это слово мы часто употребляли с Симоной, и оно казалось мне самым притягательным изо всех связанных с сексом слов). Я только мысленно представлял себе, как, приподняв халат, увижу ее голый зад.
В коридоре стояла тарелка с молоком для кота.
— Тарелки существуют для того, чтобы в них садиться, — сказала Симона. — Спорим? Я сяду в тарелку.
— Спорим, что ты не решишься, — ответил я, затаив дыхание.
Было жарко. Симона поставила тарелку на скамеечку, встала передо мной, уставившись мне в глаза, и села, окунув зад в молоко. Некоторое время я оставался стоять неподвижно, кровь бросилась мне в голову, я весь дрожал, а она наблюдала, как мой член натягивает ткань брюк. Я лег у ее ног. Она не двигалась, и я впервые увидел ее «розовую и черную плоть», купающуюся в белом молоке. Долгое время мы не решались пошевелиться, причем и она, и я покраснели.
Вдруг она поднялась: молоко стекало по ее бедрам на чулки. Она подтерлась носовым платком, поставив ногу на скамеечку прямо у меня над головой. Я сжимал свой член и извивался на полу. Мы кончили одновременно, даже не прикоснувшись друг к другу. А когда вернулась ее мать, я уселся в низкое кресло и в тот момент, когда девушка находилась в материнских объятиях, тихонько приподнял халат и провел рукой между ее горячих ляжек.
Домой я вернулся бегом, мне не терпелось подрочить еще. На следующий день у меня под глазами были черные круги. Симона, взглянув на мое лицо, положила голову мне на плечо и сказала: «Я не хочу, чтобы ты дрочил без меня.»
Так начались наши любовные отношения, настолько сблизившие и поглотившие нас, что мы и недели не могли обойтись друг без друга. Вообще-то, мы на эту тему никогда не говорили. Я знал, что она испытывает в моем присутствии чувства, сходные с моими, выразить которые было практически невозможно. Помню, однажды мы стремительно мчались на машине. Я наехал на юную красивую велосипедистку, которой колесами раздробило шею. Мы долго рассматривали мертвую девушку. Ужас и отчаяние, охватившие нас при виде этой обезображенной и нежной плоти, напоминали чувства, испытываемые нами при взгляде друг на друга. Симона обычно держалась очень просто. У нее, такой высокой и привлекательной, ни во взгляде, ни в голосе не было ни малейшего намека даже на грусть. Но она была настолько чувственна, что любое, едва ощутимое влечение делало ее лицо кровожадным, устрашающим, жестоким, не имеющим ничего общего с ее обычными благодушием и безмятежностью. В первый раз я заметил в ней эту потрясшую все ее существо безмолвную судорогу — нечто подобное испытывал и я сам в тот день, когда она погрузила свой зад в тарелку. В такие мгновения все наше внимание было сосредоточено друг на друге. По-настоящему же успокоиться и отвлечься нам удавалось лишь в краткие минуты разрядки после оргазма.
Тут я должен признаться, что непосредственно к занятиями любовью мы приступили не сразу. Мы использовали любую возможность, чтобы предаться нашим играм. Нельзя сказать, что мы были совсем бесстыдны, вовсе нет, но что-то, вроде недуга, заставляло нас забывать обо всем. Итак, после того, как она попросила меня не дрочить в одиночку (мы находились тогда на вершине скалы), она сняла с меня штаны, заставила лечь на землю, задрав юбки, уселась мне на живот и впала в беспамятство. Я засунул ей в задницу смоченный в собственной сперме палец. Потом она улеглась головой к моему члену, и, опираясь коленями о мои плечи, подняла зад, подтянув его ко мне так, что моя голова оказалась на его уровне.
— Ты можешь пописать вверх и достать до моей попки? — спросила она.
— Да, — ответил я, — но писанье потечет тебе на платье и лицо.
— Почему бы и нет, — сказала он, и я сделал то, о чем она просила, но, стоило мне это сделать, как я затопил ее снова, на сей раз белой спермой.
Запах моря смешивался с запахом мокрого белья,
наших обнаженных животов и спермы. Темнело, а мы по-прежнему оставались в этом положении, как вдруг послышались легкие шаги по траве.
— Не двигайся, — взмолилась Симона.
Шаги притихли, мы не могли видеть, кто это подошел, и, затаив дыхание, ждали. Мне казалось, что выставленный таким образом зад Симоны (а так оно и было на самом деле) воспринимается как страстная мольба, и он был превосходен: глубоко разрезанный, с узкими и нежными ягодицами. И я был уверен, что незнакомец или незнакомка не устоит и обязательно тоже разденется. Снова послышались шаги, почти бег, и я увидел очаровательную Марселлу, самую невинную и трогательную из наших подруг. Мы лежали так, что не могли пошевелить даже пальцем, но вдруг наша несчастная подружка споткнулась и упала и мы, высвободившись, набросились на ее беззащитное тело. Симона задрала ей юбку, сорвала трусы и в опьянении продемонстрировала мне еще один зад, не уступающий по красоте ее собственному. Я исступленно поцеловал его, не забывая при этом теребить рукой попку Симоны, ноги которой сомкнулись вокруг талии ошеломленной Марселлы, которая уже не скрывала своих слез.
— Марселла, — воскликнул я, — умоляю, перестань плакать. Я хочу, чтобы ты поцеловала меня в губы.
А Симона тем временем ласкала ее прекрасные гладкие волосы, покрывая поцелуями все ее тело.
Между тем небо покрылось грозовыми тучами: стемнело и крупные капли дождя, падая, принесли облегчение и успокоение знойному душному дню. С моря доносился сильный шум, заглушаемый долгими раскатами грома, а вспышки молний озаряли ласкаемые мною ягодицы двух примолкших девушек. Три наши тела были охвачены грубыми исступлением. Два невинных рта по очереди ласкали мой зад, мошонку и член, а я все шире раздвигал свои мокрые от слюны и спермы ноги. Я как будто хотел высвободиться из объятий чудовища и этим чудовищем была дикая необузданность моих собственных движений. Потоки теплого дождя стекали с наших тел. Сильные удары грома, обрушиваясь на нас, увеличивали наше неистовство, при каждой вспышке молнии освещавшей наши половые органы, мы начинали истошно вопить. Симона, обнаружив грязную лужу, повалилась в нее: она терлась о землю и наслаждалась, хлестал ливень, моя голова была сжата ее испачканными грязью ногами; лицо ее было погружено в лужу, в которой уже елозила своей задницей Марселла, охваченная рукой Симоны за талию, в то время как другой рукой она с силой раздвигала ее ноги.
НОРМАНДСКИЙ ШКАФ
С некоторых пор Симона пристрастилась разбивать своим задом куриные яйца. Для этого она вставала головой на кресло, прислонившись спиной к спинке и вытянув ноги ко мне, а я дрочил так, чтобы пустить струйку семени в ее лицо. Я вставлял яйцо в дырочку: ей доставляло удовольствие ощущать, как оно перекатывается в ее глубокой щели. В тот самый момент, когда брызгала сперма, она давила его, напрягая ягодицы, и кончала, а я, погружая лицо в ее задницу, захлебывался от обильной жидкости.
Ее мать, женщина мягкая, имевшая безупречную репутацию, однажды застала нас за этими упражнениями, и в первый раз удовольствовалась тем, что молча, без единого слова, присутствовала при нашей игре, так что мы даже ее не заметили: мне теперь кажется, что она от ужаса просто онемела. Только закончив (мы уже впопыхах уничтожали следы беспорядка), мы обнаружили, что она стоит в дверях.
— Сделай вид, что ничего не произошло, — сказала Симона, вытирая свои ягодицы.
Мы вышли, как ни в чем не бывало.
Несколько дней спустя Симона, занимавшаяся со мной гимнастикой на лесах гаража, пописала на эту остановившуюся под ней и не видевшую ее женщину. Пожилая дама посторонилась и посмотрела на нас своими грустными глазами с таким потерянным видом, что это побудило нас к созданию целого каскада новых игр. Симона, стоя на четвереньках, со смехом поднимала свой зад к моему лицу, а я, задрав ей юбку, дрочил себя, пьянея от сознания того, что занимаюсь всем этим на глазах ее матери.
Мы не видели Марселлу целую неделю, а потом случайно встретили ее на улице. Эта застенчивая и набожная до наивности юная блондинка так сильно покраснела, что Симона поцеловала ее с приливом новой нежности.
— Я прошу у вас прощения, — сказала она ей низким голосом. — То, что произошло тогда, достойно сожаления. Но это не мешает нам оставаться друзьями. Я вам обещаю: мы больше до вас не дотронемся.
Марселла, будучи существом почти безвольным, согласилась следовать за нами. И мы последовали ужинать к Симоне в компании нескольких друзей. Но, правда, вместо чая, мы в огромном количестве пили шампанское.
Вид зардевшейся Марселлы возбудил нас, мы с Симоной чувствовали, что теперь уже ничто не заставит нас отступить. Кроме Марселлы с нами были еще три девушки и два юноши, старшему из восьмерых не было и семнадцати. Выпивка произвела сильное действие, но, кроме Симоны и меня, никто не возбудился так, как нам бы того хотелось. Звуки фонографа вывели нас из состояния прострации. Симона в одиночестве танцевала какой-то дьявольский рэг-тайм, демонстрируя свои обнаженные ляжки. Последовавшие ее примеру остальные девушки уже совсем раззадорились и позабыли про стыд. Конечно, трусы на них были, но скрывали они не многое. Только Марселла, пьяная и молчаливая, отказалась танцевать.
Симона, делавшая вид, что совершенно пьяна, смяла салфетку и, подняв ее вверх, предложила пари:
— Спорим, — сказала она, — что я помочусь на салфетку прямо перед всеми.
В общем-то, это было сборище несерьезных разболтанных молодых людей. Один юноша принял вызов. Пари было заключено на волю победителя. Симона, не колеблясь ни минуты, помочилась на салфетку. И собственная храбрость окончательно ее разнуздала. А юные оболтусы и вовсе потеряли рассудок.
— Ну раз «на волю победителя», — сказала Симона проигравшему, — я сниму с вас штаны на глазах у всех.
Что и было незамедлительно сделано. Сняв штаны, Симона заодно сняла с него и рубашку (чтобы он не выглядел смешным). Во всяком случае, ничего особенного не произошло: разве только Симона слегка погладила член приятеля. Все мысли ее были поглощены Марселлой, которая умоляла отпустить ее домой.
— Марселла, вам же обещали, что вас не тронут, почему же вы хотите уйти?
— Потому что, — упрямо твердила та. (Ею уже овладел панический страх).
Вдруг, к ужасу остальных, Симона рухнула на пол. Ее охватило граничащее с безумием возбуждение, в смятой одежде, подняв свою задницу вверх, она каталась как в припадке эпилепсии у ног юноши, с которого только что сняла штаны, и бормотала.
— Пописай на меня… помочись на мою попку… — повторяла она так, как будто изнывала от жажды.
Марселла внимательно наблюдала за ней, кровь прилила к ее лицу. Не глядя на меня, она прошептала, что хотела бы снять платье. Я стащил его с нее, потом освободил ее от белья и она осталась в одном поясе и чулках. Позволив мне слегка потрогать себя и поцеловать в губы, она, как сомнамбула, прошла через комнату к массивному нормандскому шкафу, где и заперлась (предварительно прошептав несколько слов на ухо Симоне).
Она хотела заняться в этом шкафу онанизмом и умоляла, чтобы ее оставили одну.
Нужно сказать, что все мы были уже совершенно пьяны и упивались собственной храбростью. Юная девушка сосала обнаженного юношу. Симона стояла, задрав юбку, и терлась ягодицами о шкаф, откуда доносились страстные вздохи мастурбирующей Марселлы.
Вдруг произошло нечто невероятное: послышался шум воды, и сначала маленький ручеек, а потом целый ручей заструился из-под двери шкафа. Несчастная Марселла, кончая, описалась в своем шкафу. Последовавший за этим взрыв пьяного смеха, обозначил начало настоящей оргии, смешав падающие тела, мелькающие в воздухе ноги и задницы, извергающуюся сперму и мокрые от этой спермы юбки. Взрывы смеха повторялись как икота, на мгновение отвлекая молодежь от задниц и членов. Однако, вскоре мы услышали, как из импровизированного писсуара, ставшего теперь ее тюрьмой, раздались рыдания оставленной в одиночестве Марселлы.
…………………………………………………………………………………
Через полчаса я немного протрезвел и догадался помочь Марселле выйти из шкафа. Несчастная девушка была в отчаянии, она дрожала и тряслась, как в лихорадке. Мой вид вызвал у нее болезненный ужас. Я был бледен, весь в крови, одежда на мне была вывернута наизнанку. Грязные обнаженные тела валялись у меня за спиной в диком беспорядке. Двое из нас сильно порезались осколками стакана, одна из девушек блевала, а мы так бешено смеялись, что описались, кто в одежду, кто в кресло, на котором сидел, а кто и на пол, в результате чего пахло букетом крови, спермы, мочи и рвоты, все это и заставило ее в ужасе отступить, но крик, вырвавшийся у Марселлы, испугал меня еще больше. Нужно сказать, что Симона заснула, улегшись навзничь с умиротворенным лицом и вцепившись пальцами в растительность в низу своего живота.
Марселла отшатнулась от меня, попятилась, спотыкаясь с каким-то нечленораздельным бормотанием выскочила, взглянула на меня во второй раз, как на мертвеца, и рухнула, испуская потом нечеловеческих криков.
Странно, но эти крики вызвали во мне тошноту. Сюда неизбежно должны были прибежать люди. Я нисколько не пытался скрыться, избежать скандала. Напротив, я распахнул дверь: жуткая сцена, зато как весело! Можно без труда представить себе восклицания ужаса, крики и ругань ворвавшихся в комнату родителей: суд, каторга, эшафот спрягались на все лады в их грозных воплях и истошных проклятиях.
Наши приятели тоже принялись кричать. Вскоре из криков и слез образовался какой-то горячечный хор: можно было подумать, что их будто бы запалили, наподобие факелов.
И однако, какая ужасная несправедливость! Мне казалось, что уже ничто не сможет положить конец трагикомическому бреду этих безумцев. Остававшаяся голой Марселла продолжала истошно оповещать всех о своем стыде, о своем невыносимом ужасе.
Говорят, что, несмотря на множество рук, пытавшихся ее удержать, она укусила в лицо свою мать.
Вмешательство родителей лишило ее остатков рассудка. Пришлось прибегнуть к помощи полиции. Весь квартал был свидетелем неслыханного скандала.
ЗАПАХ МАРСЕЛЛЫ
Мои родители не подавали признаков жизни. Все же, предвидя ярость отца, этого выжившего из ума старикашки, генерала и ревностного католика, я решил на всякий случай скрыться. Я пробрался на виллу с заднего хода, чтобы похитить необходимую мне сумму денег. Я был уверен, что меня ищут повсюду, а я в это время орудовал в комнате своего отца. В десять часов вечера я ушел в деревню, оставив на столе матери следующую записку:
«Прошу Вас, постарайтесь не посылать за мной полицию. Я прихватил с собой револьвер. Первая пуля предназначена жандарму, вторая — мне.»
Я никогда не старался вести себя, что называется, прилично. Мне все время хотелось поставить в затруднительное положение свое упорно избегавшее скандалов семейство. Однако, с легкостью и не без веселья написав эти слова, я счел нелишним положить в карман отцовский револьвер.
Почти всю ночь я шел по берегу моря, но, из-за сильных изгибов береговой линии, не особенно удалился от Х… Во время ходьбы мне хотелось успокоиться: в моем горячечном воображении помимо моей воли все время возникали образы Симоны и Марселлы. Мало-помалу мной овладела мысль о самоубийстве, держа в револьвер я постепенно утрачивал смысл слов «надежда» и «отчаяние». От усталости я, несмотря ни на что, все-таки ощущал потребность хоть в каком-то оправдании своего существования. Оно обрело бы его в той мере, в какой я сам признал бы желательным определенный ход событий. Я смирился с неотступно преследовавшими меня именами: Симона, Марселла. Смешно сказать, но я действовал, следуя какой-то фантастической логике, в которой мои самые дикие поступки были цепко связаны с поступками девушек.
Весь день я проспал в лесу. С наступлением ночи я отправился к Симоне, и перелез через стену в ее сад. Комната моей подружки была освещена: я стал бросать в окно камешки. Симона спустилась. И мы молча отправились к морю. Было темно, время от времени я, приподняв ей платье, я ощупывал ее ягодицы: это не доставляло мне никакого удовольствия. Она села, а я лег у ее ног: я чувствовал, что вот-вот разрыдаюсь. И действительно, я безудержно рыдал, лежа на песке.
— Что это такое? — сказала Симона.
Игриво она толкнула меня ногой. Ее нога ударила по револьверу в моем кармане. Оглушительный выстрел заставил нас вскрикнуть. Ранен я не был и, вскочив на ноги, почувствовал себя как бы в другом мире. Симона тоже была бледной и растрепанной.
В этот день мы даже не помышляли о том, чтобы онанировать.
Мы бесконечно долго целовались, чего с нами раньше никогда не было.
Так я прожил несколько дней, выходили мы лишь поздней ночью. Мы спали в ее комнате, где я скрывался до наступления темноты. Симона приносила мне еду. Ее мать, с которой никто не считался (в день того скандала она, едва заслышав крики, ушла из дома) смирилась с ситуацией. Что касается слуг, что Симона при помощи денег сумела завоевать их расположение на продолжительное время.
От них мы узнали обстоятельства заключения Марселлы в психиатрическую лечебницу, где она сейчас и находилась. С первого же дня все наши мысли были только о ней, о ее безумии, одиночестве ее тела, возможности до нее добраться, и, если получится, помочь ей бежать.
Однажды я попытался изнасиловать Симону.
— Ты с ума сошел! — воскликнула она. — Но, малыш, меня это не интересует, лечь в постель, как мать семейства! Вот с Марселлой…
— Почему? — спросил я, разочарованный, но, в сущности, мне нечего было ей возразить.
Она страстно прижалась ко мне и сказала мечтательным голосом:
— … когда она увидит, как мы занимаемся любовью, она пописает… вот так…
Я почувствовал, как по моим ногам заструилась чудная жидкость. Когда она перестала, я в свою очередь затопил ее. Я поднялся, сел ей на голову и измазал ей лицо спермой. Вся испачканная, обезумев, она наконец изошла. Она втянула в себя запах нашего счастья.
— Ты пахнешь Марселлой, — сказала он, оторвав нос от моего еще мокрого зада.
Часто нас охватывало болезненное желание заняться любовью. Но речи не могло быть о том, чтобы забыть Марселлу, крики которой все еще терзали наш слух, пробуждая в нас самые смутные желания. Из-за этого наш сон превратился в длительный кошмар. Улыбка Марселлы, ее молодость, рыдания, стыд, заставивший ее покраснеть до испарины, прежде, чем она сорвала с себя платье, отдав свои хорошенькие круглые ягодицы похотливым ртам, горячка, заставившая ее закрыться в шкафу и с таким самозабвением заняться там онанизмом, что она не смогла удержаться и описалась, — все это постоянно будоражило и разжигало наше воображение.
Симона, поведение которой во время скандала, было еще более инфернальным, чем когда-либо (она даже не прикрылась, а, как я помню, напротив, еще шире раздвинула тогда свои ноги) не могла забыть, что тот непредвиденный оргазм, достигнутый ею в результате ее собственного бесстыдства, воплей и наготы Марселлы, превзошел по своей мощи все, что она воображала себе до того.
И ее зад теперь раскрывался передо мной лишь тогда, когда призрак разъяренной, бредящей или покрасневшей Марселлы придавал ее чувствам ошеломляющую остроту, наподобие того, как святотатство превращает любое деяние в ужасное и постыдное.
Впрочем, поросшая болотным пушком задница — которая отдаленно напоминает дни паводка, грозы или удушливые испарения вулканов, которая, наподобие гроз и вулканов, всегда приносит с собой несчастье — эта таящая в себе скрытую угрозу задница, которую Симона, находясь в забытьи, предвещавшем вспышки страсти, позволяла, как загипнотизированная, мне разглядывать, отныне являлась для меня подземным владением Марселлы, заключенной в своей темнице и отданной во власть кошмаров. Я видел перед собой лишь одно — лицо молоденькой девушки, искаженное оргазмом, рыданиями и криками.
Симона же в свою очередь, глядя на мою сперму, видела лишь обильно измазанные ею рот и ягодицы Марселлы.
— Ты мог бы исхлестать ей лицо своей спермой, — сказала она мне, размазывая мое семя по ягодицам. — «так, чтобы у нас искры посыпались из глаз».
СОЛНЕЧНОЕ ПЯТНО
Другие женщины и мужчины не представляли для нас больше никакого интереса. Мы думали лишь о Марселле, по-детски представляя себе, как она, например, повесится, ее тайные похороны и ее мрачный призрак.. Однажды вечером, хорошенько все разузнав, мы на велосипедах отправились в психбольницу, в которой была заключена наша подружка. Меньше чем за час мы проехали двадцать километров, отделявшие нас от окруженного парком замка, в одиночестве возвышавшегося на скале у моря. Мы знали, что Марселла находится в восьмой палате, но, чтобы ее найти, надо было проникнуть внутрь. Забраться же в палаты было возможно лишь через окно, перепилив решетки. Мы не представляли себе, как туда проникнуть, но вдруг наше внимание было привлечено странным явлением. Мы перелезли через стену и очутились в парке, с раскачиваемыми сильным ветром деревьями, и тут одно из окон второго этажа открылось и чья-то тень крепко привязала простыню в оконной решетке. Простыня захлопала по ветру, а окно сразу же закрылось, прежде, чем мы смогли узнать тень.
Эта подхваченная ураганом огромная белая простыня производила невообразимый шум: он намного превосходил гул моря и ветра. В первый раз я видел, что Симона была взволнована еще чем-то, кроме собственного бесстыдства: она прижалась ко мне и с бьющимся сердцем уставилась неподвижным взглядом на этот беснующийся в ночи белый стяг, так, как если бы само безумие вывесило свой флаг над этим мрачным замком.
Мы застыли в неподвижности, Симона, зажатая в моих объятиях, и я в полуобморочном состоянии, как вдруг ветер прорвал тучи и луна с неумолимой педантичностью ответила одну, настолько странную и душераздирающую деталь, что рыдания сдавили горло Симоны: простыня, с оглушительным шумом развевавшаяся по ветру, была запачкана посредине большим мокрым пятном, отчетливо видимым в свете луны… Через несколько мгновений облака снова закрыли лунный диск: все погрузилось в темноту.
Я стоял, задыхаясь, волосы мои развевались по ветру, и плакал, как от горя, в то время, как Симона, рухнув в траву, в первый раз, совсем как ребенок разразилась сильными рыданиями.
Итак, это была наша несчастная подруга, без сомнения, это была Марселла, она только что открыла темное окно и прикрепила к прутьям решетки своей тюрьмы этот призрачный знак скорби. Должно быть, она занималась онанизмом в своей кровати настолько самозабвенно, что описалась, и мы увидели, как она привязывает к решетке простыню, чтобы та высохла.
Мне не хотелось больше оставаться в этом парке, у этого пристанища сомнительного удовольствия с зарешеченными окнами. Я ушел, оставив Симону лежать в траве. Мне хотелось просто побыть одному, но одно незарешеченное окно первого этажа было приоткрыто. Я ощупал в кармане револьвер и вошел: это был обычный салон, похожий на любой другой. С помощью карманного фонарика я смог пройти в прихожую, а потом на лестницу. Я ничего здесь не знал и не мог найти: комнаты были не пронумерованы. Я вообще перестал что-либо соображать, меня как будто околдовали, в тот момент, сам не знаю зачем, я снял штаны и уже в одной рубашке продолжал свое тоскливое исследование. Постепенно я снял всю свою одежду и сложил ее на стул, оставшись в одних ботинках. Держа в одной руке фонарик, а в другой револьвер, я шел наугад. Легкий шум заставил меня погасить фонарь. Я неподвижно застыл, слушая свое неровное дыхание. Шли долгие минуты тягостного ожидания, я ничего не слышал и вновь зажег фонарик: чей-то слабый крик заставил меня убежать так стремительно, что я не успел взять свою одежду со стула.
Я чувствовал, что меня преследуют и торопился выйти наружу, я выпрыгнул в окно и спрятался в аллее. На мгновение обернувшись, я заметил в оконном проеме голую женщину, которая выпрыгнула в окно вслед за мной и бегом скрылась в колючем кустарнике.
В эти тягостные минуты мне было трудно привыкнуть лишь к своей наготе на ветру в аллее незнакомого сада. Все происходило там, как будто я уже покинул Землю, и теплый порывистый ветер как будто звал меня за собой. Я не знал, что делать с револьвером, у меня не было кармана. Я начал преследовать эту женщину так, как если бы хотел ее убить.
Гневный шум вселенной, смятение деревьев и простыни смешалось в полном хаосе.
Я уже не контролировал своих действий и сам не понимал, чего хочу.
Я остановился и подошел к кусту, за которым только что скрылась тень. Вне себя от возбуждения, с револьвером в руке я огляделся вокруг. В этот момент я почувствовал, что мое тело готово разорваться, чья-то мокрая от слюны рука схватила мой член и стала его дрочить, горячий, влажный поцелуй проник внутрь моего зада, голая грудь и голые ноги какой-то сотрясающейся в порыве оргазма женщины прижались к моим ногам. Я едва успел обернуться, чтобы спустить сперму в лицо Симоны, в руке у меня был револьвер, меня трясло с силой, равной силе урагана, мои зубы стучали, на губах выступила пена, сведенными судорогой руками я конвульсивно сжал револьвер и, помимо моей собственной воли, трижды выстрелил в сторону замка.
Опьяненные и разнузданные мы с Симоной отделились друг от друга, как собаки, и устремились через лужайку. Ураган шумел слишком сильно, и выстрел не мог разбудить обитателей замка. Но, когда мы взглянули на окно, в котором хлопала простыня, то к своему удивлению обнаружили, что одна пуля пробила стекло, а затем увидели, как это поврежденное окно открывается и тень появляется во второй раз.
Ошеломленные до такой степени, как если бы окровавленная Марселла на наших глазах упала мертвой из амбразуры окна, мы застыли перед этим неподвижным призраком, не в силах даже окликнуть ее, из-за дикого шума ветра.
— Куда ты дела свою одежду? — наконец спросил я у Симоны.
Она ответила, что искала меня и, не найдя, отправилась, как и я, на исследование замка. Но прежде чем влезть в окно, она разделась решив, что так она станет «полностью свободна». А потом, преследуя меня, она меня же испугалась, побежала, и не смогла найти свое платье. Должно быть его унес ветер. Теперь же она была полностью поглощена наблюдением за Марселлой и даже забыла спросить, почему голый я.
Девушка в окне исчезла. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем она зажгла в комнате свет и вернулась к окну подышать свежим воздухом и посмотреть на море. Ее блеклые гладкие волосы трепал ветер, мы видели ее лицо: она не изменилась, если не считать дикого выражения беспокойного взгляда, сочетавшегося с почти детской наивностью. На вид ей можно было дать тринадцать, а не шестнадцать лет. Ее тело под легкой ночной рубашкой было стройным, но упругим, крепким и не расцветшим до конца, таким же прекрасным, как ее неподвижный взгляд.
Когда наконец она нас заметила, удивление, кажется, вернуло ее к жизни. Она что-то крикнула, но мы ничего не услышали. Мы стали делать ей знаки. Она покраснела до ушей. Симона, тело которой я страстно ласкал, едва сдерживая слезы, посылала ей воздушные поцелуи, на которые та отвечала без улыбки. Наконец Симона опустила свою руку вниз и коснулась пушка внизу живота. Марселла сделала, как она, и, поставив ногу на подоконник, обнажила ногу в белом шелковом чулке, доходившем до ее светлых волос. Странно, но на ней был белый пояс и белые чулки, в то время как смуглая Симона, зад которой терся о мою руку, была в черном поясе и черных чулках.
Тем временем обе девушки ласкали себя короткими и резкими движениями рук, стоя лицом к лицу в этой грозовой ночи. Они были почти неподвижны и напряжены, с застывшими от блаженства взглядами. Вдруг словно невидимое чудовище оторвало Марселлу от решетки, в которую та вцепилась левой рукой: мы увидели, как она, охваченная горячкой, упала навзничь. Перед нами осталось лишь открытое окно, прямоугольная, пробитая в черной ночи дыра, через которую до наших усталых глаз доходили отблески молний и утренней зари.
СТРУЙКА КРОВИ
Моча у меня ассоциируется с порохом, а молния, не знаю почему, с глиняным ночным горшком, забытым дождливым осенним днем на цинковой крыше провинциальной прачечной. В первую же ночь в психбольнице эти разрозненные видения соединились в темной части моего подсознания с влажным лоном и изможденным лицом Марселлы. Но этот воображаемый пейзаж внезапно заливала струйка света и крови действительно, Марселла не могла получить истинного наслаждения без того, чтобы не залить себя, если не кровью, то потоком светлой мочи, которая даже в моих снах, сверкала. Этот поток, сперва сильный и прерывистый, как икота, а потом льющийся свободно, был выражением нечеловеческой радости. Неудивительно, что и самые неясные и болезненные области мечты являлись как бы предчувствием, ожиданием вспышки — наподобие освещенной дыры пустого окна, за которым упавшая на пол Марселла без конца затопляет себя мочой.
В этот день, в грозу без дождя сквозь враждебную тьму Симоне и мне надо было бежать от замка и скрываться, как животным, без одежды, преследуемым отчаянием, которое, без сомнения, уже снова овладело и Марселлой. Несчастная узница была как бы воплощением отчаяния и негодования, которые постоянно доводили наши тела до неистовства. Некоторое время спустя (найдя свои велосипеды) мы являли собой противоестественное и убогое зрелище обнаженных, но обутых тел на двухколесных машинах. Мы быстро, без смеха и слез крутили педали, объединенные своим бесстыдством, усталостью и абсурдом.
Мы просто умирали от усталости. На берегу Симона остановилась и ее стало трясти. Пот тек с нас ручьями, а Симона вся дрожала, стуча зубами. Тогда, чтобы ее вытереть, я снял с нее один чулок, от ее тела исходил теплый запах, какой бывает у больничной постели или постели разврата. Постепенно ее состояние улучшилось и она в знак признательности подставила мне свои губы.
Мною овладело сильное беспокойство. До Х… было еще километров десять, и в том виде, в каком мы были, надо было любой ценой постараться успеть туда до рассвета. Я уже едва держался на ногах, не надеясь когда-либо увидеть конец этого невероятного путешествия. Мгновения, когда мы покинули реальный мир, состоящий из одетых людей, было так далеко, что казалось навсегда канувшим в вечность. На сей раз моя галлюцинация разрасталась до масштабов глобального кошмара человеческого существования, охватив собой землю, воздух и небо.
Кожаное сиденье прилипло к голому заду Симоны, которая, вращая педали, невольно онанировала. Мне казалось, что задняя шина тонет в голом заду велосипедистки. Впрочем, движение стремительно вращающегося колеса напоминало охватившее меня влечение, эрекцию, затягивающую меня в бездну прилипшего к седлу обнаженного зада. Ветер немного ситх, часть неба осветилась звездами, и я подумал, что только смерть может стать завершением моей бесконечной эрекции, когда наконец Симона и я разобьемся, то в нашей отдельной ото всех вселенной засияют чистые холодные звезды, став воплощением того геометрического ослепительно сияющего накала (еще одно совпадение жизни и смерти, сущего и небытия), которого мне всегда так хотелось достичь в моей развращенности.
Эти образы рождались абсурдным противоречием между моим полным истощением и напряжением мужского члена. Его напряжение вряд ли из-за темноты могла видеть Симона, к тому же, моя левая нога, постоянно поднимаясь, его скрывала. Между тем, мне казалось, что ее взгляд в темноте был устремлен именно к этой точке моего тела. Она мастурбировала на седле все энергичнее и резче. Она, как и я, упивалась нависшей над ней опасностью, вызванной ее наготой. Я слышал ее хриплые стоны, она была буквально снесена потоком наслаждения и ее голое тело, сопровождаемое шумом скрежещущей о камни стали, было отброшено на лужайку.
Я нашел ее неподвижной, с безжизненно свисающей головой: из угла рта сочилась тонкая струйка крови. Я приподнял ее упавшую руку. Я бросился на это бездыханное тело, и в мгновение, когда я сжал его в объятиях, по моему телу, помимо моей воли, пробежала судорога кровожадного наслаждения, а верхняя губа, приподнявшись, обнажила зубы, как у идиота.
Постепенно придя в себя, Симона шевельнулась и разбудила меня. Я очнулся от полузабытья, в которое впал в результате депрессии, охватившей меня при мысли о том, что я осквернил ее труп. Ни одной раны или синяка не было на теле, по-прежнему одетом только в пояс с подвязками и один чулок. Я взял ее на руки и понес по дороге, позабыв об усталости, я старался идти как можно быстрее, ведь уже начинало светать. Только приложив нечеловеческие усилия, я смог добраться до виллы и с ощущением глубокого счастья уложить свою прелестную и живую подружку в кровать.
Пот градом катился у меня по лицу. Глаза мои были налиты кровью, в ушах звенело, а зубы стучали, но я спас свою любимую, я надеялся вскоре увидеть Марселлу, и прямо так, мокрый от пота и весь в пыли, я вытянулся рядом с Симоной и без единого стона погрузился в глубокий кошмар.
СИМОНА
После этого, кончившегося все-таки благополучно происшествия с Симоной, наступил период некоторого затишья. Она заболела. Когда приходила ее мать, я удалялся в ванную комнату. Воспользовавшись случаем, я мылся или мочился. В первый же раз, когда эта женщина хотела туда войти, ей помешала дочь.
— Не входи, — сказала она, — там голый мужчина.
Симона быстро выпроваживала ее за дверь, и я снова занимал свое место на стуле у кровати. Я курил и читал газеты. Иногда я сжимал в объятиях горячую от лихорадки Симону, когда она писала со мной в ванной. Потом я заботливо подмывал ее на биде. Она была слишком слаба, и, естественно, я долго к ней не прикасался.
Некоторое время спустя она стала развлекаться тем, что заставляла меня бросать в унитаз крутые яйца, которые сразу же тонули или же просто скорлупу выпитых яиц. Она сидела и смотрела на яйца. Я сажал ее на унитаз: она раздвигала ноги и смотрела на яйца под своей задницей, потом я спускал воду.
(Еще одна игра заключалась в том, что я разбивал яйцо о край биде и выливал его под нее, или она писала на яйцо, или же я сам снимал с себя штаны и, встав на четвереньки, проглатывал его из биде, она пообещала мне, что, поправившись, проделает то же самое сначала передо мной, а потом перед Марселлой.)
Иногда мы говорили о том, как уложим Марселлу, задрав на ней платье и не снимая с нее туфель в наполовину заполненную яйцами ванную, и как в эту кашу она будет писать. Еще Симона мечтала о том, что, когда я буду держать в объятиях обнаженную Марселлу, задница той будет поднята вверх, ноги согнуты, а голова будет внизу, сама она, одетая в пеньюар, смоченный теплой водой и прилипающий к телу, но с обнаженной грудью, встанет на белый стул. Я буду раздражать ее груди, касаясь сосков дулом только что выстрелившего но еще заряженного револьвера — запах пороха, исходящий из ствола, щекочет нервы. Тем временем она будет лить сверху тонкой струйкой сметану на серый анус Марселлы и писать в свой пеньюар, или же, если тот распахнется, на спину или на голову Марселлы, которую я, в свою очередь, тоже смогу описать.
Марселла же помочится на меня, так как моя голова будет зажата между ее ляжек. Кроме того, она может взять мой писающий член в рот.
После подобных мечтаний Симона просила меня положить ее на одеяле возле унитаза, над которым она, вытянув руки по краям, склоняла лицо, уставившись своими широко открытыми глазами на яйца. Сам я устраивался рядом с ней так, что наши щеки и виски соприкасались. Долгое созерцание вселяло в нас умиротворение. Шум спускаемой воды успокаивал Симону, наваждение рассеивалось и к ней возвращалось хорошее настроение.
Однажды в час, когда вечернее солнце освещало своими косыми лучами ванную комнату, наполовину выпитое яйцо попало в водоворот, и, наполнившись водой, со странным шумом на наших глазах затонуло: тот случай имел для Симоны какой-то скрытый смысл, она вся напряглась и с наслаждением впилась в мой глаз своими губами. Потом, не оставляя глаза, который она сосала так упорно, как будто это была грудь, она села, все еще держа меня за голову, и пописала на плавающие яйца с безумной силой и выражением полного удовлетворения на лице.
После этого я понял, что она выздоровела. Ее радость выражалась в том, что она долго разговаривала на интимные темы, в то время как в обычном состоянии она никогда не говорила ни о себе, ни обо мне. С улыбкой она призналась, что минуту назад готова была полностью отдаться мне, и сдержалась, ради большего удовольствия. И действительно, желание напрягало ее живот, она чувствовала, что ее зад набухает, как готовый раскрыться цветок. Моя рука была у нее в щели и она сказала, что хочет, чтобы я не вынимал ее, что это необычайно сладко. А когда я спросил ее, с чем у нее ассоциируются слова «писающий клитор», она ответила «с бритвой, гравирующей на глазах что-то красное», вроде солнца. А яйца? С глазом теленка, из-за цвета его головы, а впрочем, белок яйца и был белком глаза, а желток — зрачком. Она считала, что форма глаза — это форма яйца. Когда мы вышли прогуляться, она попросила меня подбросить вверх яйцо и, стоя лицом к солнцу, разбить его выстрелом из пистолета. Это показалось мне невыполнимым, она стала спорить, приводя забавные доводы. Пытаясь настоять на своем, она шутя играла словами, говоря, то «разбить глаз», то «выколоть яйцо».
Еще она сказала, что запах задницы и исходящих из нее газов напоминает ей запах пороха, а поток мочи — «вспышку света в момент выстрела из револьвера». Каждая из ее ягодиц была очищенным крутым яйцом. Мы приказали принести нам горячие очищенные яйца в мешочек, чтобы положить их в унитаз, она сказала мне, что способна полностью удовлетвориться на этих яйцах. Когда она мне это говорила, ее задница была в моей руке, и я почувствовал, как в нас вместе с этими словами возросло напряжение.
Должен признаться, что комната больного — самое подходящее место для пробуждения дремлющей юношеской похоти. Ожидая яйца в мешочек, я сосал грудь Симоны. Она гладила мою голову. Ее мать принесла нам яйца. Я даже не обернулся. Приняв ее за служанку, я продолжал свое занятие. Но даже узнав ее голос, я не двинулся с места, ибо не мог, даже на мгновение оторваться от груди, я снял с себя штаны так, как будто собрался по нужде: нельзя сказать, что мне хотелось продемонстрировать свою смелость, я бы не возражал, если бы она поскорее убралась и тем не менее, я чувствовал удовлетворение оттого, что преступаю все границы. Когда она вышла из комнаты, уже начало темнеть. Я зажег свет в ванной. Симона сидела на унитазе, каждый из нас съел по яйцу, я ласкал тело моей подружки, скользя по нему яйцами и стараясь засунуть их в ее щель между ягодицами. Симона некоторое время наблюдала, как они погружаются в ее зад, белые, теплые, очищенные, как бы обнаженные, а потом приняла их в себя со звуком, напоминающим тот, что производят яйца, сваренные в мешочек, засасываемые в унитаз.
Следует отметить: с тех пор ничего подобного между нами никогда не было, кроме одного единственного случая, больше мы о яйцах не говорили. Стоило нам их увидеть, как мы краснели и с беспокойством переглядывались, как бы желая о чем-то спросить друг друга.
Завершение этой истории продемонстрирует, что это молчаливое вопрошение не осталось без ответа и ответ в полной мере соответствует пустоте, открытой в нас нашими развлечениями с яйцами.
МАРСЕЛЛА
Мы с Симоной старались не касаться своих навязчивых желаний. Слово «яйцо» было вычеркнуто из нашего словаря. Тем более, мы избегали разговоров о нашем взаимном влечении друг к другу. И еще в большей степени о том, чем являлась для нас Марселла. На протяжении всей болезни Симоны мы оставались в ее комнате и ждали момента, когда сможем вернуться к Марселле, с нетерпением, подобным тому, с каким в школе мы ждали конца уроков. Во всяком случае, мы уже смутно представляли себе этот день. Я приготовил бечевку, веревку с узлами и пилку для металла, которую Симона тщательно проверила. Прикатив оставленные в зарослях велосипеды, я тщательно их смазал и прикрепил к своему багажник, чтобы девушка могла ехать за моей спиной. Проще всего было, по крайней мере хоть на какой-то время поселить Марселлу вместе со мной в комнате Симоны.
Прошло целых шестнадцать недель, прежде чем Симона смогла следовать за мной в психбольницу. Мы выехали ночью. Днем я все еще скрывался и у нас были все основания не привлекать к себе особого внимания. Я торопился поскорее прибыть к месту назначения, которое рисовалось мне заколдованным замком, слова «психбольница» и «замок» были связаны в моем сознании с воспоминанием о призрачном флаге над безмолвным населенном безумцами здании. Удивительно, но у меня было такое ощущение, что я возвращаюсь к себе, в то время как всегда и везде я чувствовал себя чужим.
Это ощущение не покинуло меня и тогда, когда мы перелезли через стену и перед нами снова выросло это здание. Только окно Марселлы было освещено и широко открыто. Камешки, которые мы, подобрав на аллее, бросили ей в комнату, привлекли внимание девушки, она нас узнала и подчинилась нашему знаку, который мы ей подали, приложив палец ко рту. Мы сразу же показали ей веревку с узлами, чтобы она поняла, зачем мы пришли. Я бросил ей бечевку со свинцом на конце и она, пропустив ее сквозь решетку, вернула мне ее конец, это было совсем нетрудно, веревка была поднята, привязана, и я залез на окно.
В первый момент, когда я хотел ее поцеловать, Марселла отстранилась. Она ограничилась тем, что очень внимательно смотрела, как я пилкой перепиливаю прутья решетки. Я ласково посоветовал ей одеться, чтобы пойти с нами, так как она была в одном купальном халате. Повернувшись ко мне спиной, она надела шелковые чулки, закрепив их на отделанном яркими красными лентами поясе, оттенявшем необыкновенно нежную и чистую кожу ее ягодиц. Весь в поту я продолжал пилить. Марселла прикрыла рубашкой свою плоскую спину, переходившую в соблазнительную попку, которая была особенно подчеркнута поставленной на стул ногой. Трусов она не надела. А надела серую шерстяную юбку в складку и пуловер в черную, белую и красную мелкую клетку. Одевшись, в башмаках без каблуков, она села рядом со мной. Я мог одной рукой погладить ее прекрасные светлые гладкие волосы, которые были такие светлые, что казались совсем прозрачными. Она с участием смотрела на меня и, казалось, была тронута моей безмолвной радостью.
— Мы поженимся, правда? — спросила она наконец. — Здесь так плохо, мне пришлось вынести много мучений…
В тот момент я даже представил себе на миг, что смогу когда-нибудь посвятить остаток своих дней этому нереальному видению. Я долго целовал ее лоб и глаза. Одна из ее рук случайно скользнула по моей ноге и, прежде чем ее убрать, она бессознательным жестом погладила меня сквозь ткань брюк.
Наконец гнусная решетка не выдержала моих титанических усилий. Я изо всех сил отогнул прутья, открывая необходимое для лаза пространство. И действительно она пролезла и я спустил ее вниз, поддерживая рукой, просунутой между ее обнаженных ног. На земле она прижалась ко мне и поцеловала меня в губы. Симона лежала у наших ног, глаза ее блестели от слез, она обняла ее ноги, целуя бедра, к которым хотела было сперва лишь прижаться щекой, но не сдержавшись от радости, обнажила ее тело и, припав губами к вульве, жадно ее поцеловала.
Мы с Симоной видели, что Марселла не осознает того, что с ней происходит. Она улыбалась, представляя себе удивление управляющего «заколдованным замком», когда тот увидит ее с мужем. Она не замечала присутствия Симоны, которую, смеясь, иногда принимала за волка, из-за ее черной шевелюры и постоянного молчания, к тому же голова моей подружки лежала у ее ног, как голова собаки. Когда же я говорил ей о «заколдованном замке», она не сомневалась, что речь идет о доме, где она находилась в заключении, и стоило ей об этом вспомнить, как ее охватывал ужас, так, как если бы из темноты появлялся какой-то призрак. Я смотрел на нее с беспокойством, и суровое в этот момент выражение моего лица испугало ее. Почти сразу же она начала умолять меня защитить ее, когда вернется Кардинал.
Мы прилегли на освещенной лунным светом лесной полянке, чтобы передохнуть в пути, но главным образом для того, чтобы получше рассмотреть и расцеловать Марселлу.
— Кто такой Кардинал? — спросила Симона.
— Это тот, кто посадил меня в шкаф, — сказала Марселла.
— Почему же Кардинал? — вскричал я.
Она ответила почти не задумываясь:
— Потому что он священник на гильотине.
— Я вспомнил ее испуг, когда я открыл шкаф: у меня на голове был фригийский колпак ярко-красного цвета. Я был весь в крови девушки, которую только что лишил девственности.
Таким образом, «Кардинал, священник гильотины» слился в помутившемся сознании Марселлы с запачканным кровью палачом во фригийском колпаке на голове. Странная смесь жалости и ужаса, которые обычно вызывают священники, объясняют это отождествление. Возможно, ожесточение и тоска, всегда переполняющие мою душу при необходимости решительных действий, тоже способствовали этому.
ОТКРЫТЫЕ ГЛАЗА ПОКОЙНИЦЫ
Это открытие меня ошеломило. Даже Симона была поражена. Марселла дремала в моих объятиях. Мы не знали, что делать. Ее задравшаяся юбка обнажила светлый пушок под красными лентами между продолговатых ляжек. Эта молчаливая неподвижная нагота доводила нас до исступления: казалось, достаточно одного вздоха, и мы воспламенимся. Мы боялись пошевелиться, чтобы не нарушить эту неподвижность и дать Марселле крепче заснуть.
Я дошел до такой степени исступления, что не знаю, что бы произошло, если бы Симона в этот момент не зашевелилась. Она слегка раздвинула мои ноги, а потом, раздвинув их так широко, как могла, прошептала мне глухим голосом, что не в силах больше сдерживаться и, вздрогнув, залила свою юбку в тот самый момент, когда сперма брызнула в мои штаны.
Я улегся в траву, положив голову на плоский камень, и стал внимательно разглядывать Млечный Путь, причудливым образом забрызганный звездной спермой и небесной мочой, струившейся сквозь трещину в черепе созвездий: эта трещина зияла в центре неба и, казалось, была образована парами аммония, переливающимися в глубине небес — они вонзались в пустоту пространства, как крик петуха в тишину, как в яйцо, как в выколотый глаз или же в мой лежащий на камне оглушенный череп, и отсылали в бесконечность геометрически правильные образы. Отвратительный, абсурдный крик петуха напоминал мою жизнь: теперь еще из-за Кардинала, из-за красной трещины и истошных криков из шкафа, а также из-за того, что петухам перерезают горло…
Остальным людям вселенная представляется благородной. Порядочным людям она представляется вполне благопристойной, ибо их глаза кастрированы. Поэтому-то они так и боятся непристойности. Они не испытывают никакой тоски при виде звездного неба или при крике петуха. «Плотские радости» доставляют им удовольствие только благодаря своей пошлости.
Но с некоторых пор, я могу сказать это вполне определенно: именно из-за этой пошлости я больше не любил то, что обычно называют «плотскими радостями». Мне нравилось только то, что считается «грязным». Я больше не испытывал удовлетворения, участвуя в обычном разврате, потому что любой обычный разврат оставляет нетронутой возвышенную и чистую душу. Разврат, который познал я, затрагивает не только мое тело и мысли, но все, чего способно коснуться мое воображение, и особенно звездную вселенную…
Луна ассоциируется у меня с женской, отвратительно пахнущей кровью, менструацией.
Я любил Марселлу, но не оплакивал ее. Это по моей вине она умерла. Иногда меня мучают кошмары и я часами просиживаю, закрывшись в погребе, думая о Марселле, и тем не менее, я готов, например, был бы снова схватить ее за волосы и окунуть головой в унитаз. Но она мертва, а я живу, и не способен отделиться от событий, напоминающих мне о ней, даже теперь, когда мне меньше всего этого хочется. Но без этого я вообще не чувствовал какой-либо связи между покойной и собой, как это обычно, к сожалению, бывает со мной в жизни.
Теперь надо рассказать о том, как повесилась Марселла: она увидела нормандский шкаф и вся задрожала. К тому же, взглянув на меня, она поняла, что я — это Кардинал. Она так завопила, что нам оставалось только одно — уйти. Когда мы снова вернулись в комнату, она уже висела в шкафу.
Я перерезал веревку, но она была мертва. Мы уложили ее на ковер. Симона заметила, что я возбужден, стала меня дрочить, мы легли на пол и я соединился с ней прямо рядом с трупом. Симона была девственна и нам было больно, но именно эта боль принесла нам удовлетворение. Когда Симона встала и взглянула на мертвое тело, Марселла казалась уже совсем чужой, да и сама Симона стала чужой для меня. Я больше не любил ни Марселлу, ни Симону, и я бы не удивился, если бы мне сказали, что я сам только что умер. Эти события сделали меня еще более скрытным. Я хорошо помню, что мне нравилось наблюдать за неприглядным поведением Симоны. Труп раздражал ее. Она не могла вынести, что существо, внешне почти от нее не отличающееся, больше на нее не реагирует. Особенно бесили ее широко открытые глаза покойницы. Она помочилась на неподвижное лицо, но к ее удивлению глаза все равно не закрылись. Мы были абсолютно спокойны все трое, и это было самое прекрасное. В подобные мгновения я всегда чувствую скуку и присутствие смерти способно только усилить во мне это чувство. Но это не мешает мне вспоминать об этом совершенно спокойно и даже с некоторым сочувствием. В сущности, наше абсолютное спокойствие сделало все бессмысленным. Мертвая Марселла казалась мне даже менее далекой, чем живая, в той мере, в какой это вообще имеет значения для безразличного ко всему существа.
То, что Симона помочилась на нее, от скуки и раздражения, показывает, до какой степени мы были далеки от настоящего понимания смерти. Симона была разъярена, встревожена, но не испытывала к ней ни малейшего уважения. Марселла настолько отождествлялась для нас с нами самими, что мы не воспринимали ее как других мертвецов. К Марселле нельзя было подходить с теми же мерками, как к другим. Противоречивые чувства, которые мы испытывали в тот день, наконец стихли, и мы погрузились во мрак. Мы оказались заброшенными в мир, в котором жесты имели столь же мало смысла, как голоса в пространстве, в котором отсутствует эхо.
НЕПРИСТОЙНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Не желая подвергаться утомительным допросам, мы решили бежать в Испанию. Симона рассчитывала на помощь богатого англичанина, предложившего ее увезти и содержать.
Мы покинули виллу ночью. Нам не составило особого труда украсть лодку и причалить в безлюдном месте у испанского берега.
Симона, оставив меня в лесу, отправилась в Сан-Себастьян. К ночи она вернулась, сидя за рулем великолепной машины. Симона сказала мне, что сэра Эдмонда мы найдем в Мадриде, он целый день расспрашивал ее о смерти Марселлы, желая узнать малейшие подробности, даже заставил ее набросать несколько эскизов. Под конец он послал слугу купить манекен в белом парике. Симона должна была помочиться на лицо манекена, лежавшего с открытыми глазами в позе Марселлы. Девушку сэр Эдмонд не тронул.
После самоубийства Марселлы Симона сильно изменилась. Взгляд ее рассеянно блуждал, и выглядела она какой-то неприкаянной. Ее связывали с этой жизнью лишь редкие моменты оргазма, пронзавшие ее, теперь, впрочем, гораздо сильней, чем раньше. От обычных человеческих радостей они отличались столь же разительно, как гогот дикарей, например, отличается от смеха цивилизованных людей.
Усталые глаза Симоны задерживались лишь на каком-нибудь непристойном или грустном зрелище…
Однажды сэр Эдмонд запер в низком свинарнике, тесном и без окон прелестную ночную красотку из Мадрида, которая в сорочке и трусиках ползала в навозной жиже под свиными животами. Симона заставила меня долго совокупляться с собой в грязи перед дверью, в то время как сэр Эдмонд мастурбировал себя сам.
Потом она с хрипом оттолкнула меня, схватилась обеими руками за задницу и начала биться о землю запрокинутой головой, на какой-то мгновение она замерла без дыхания, изо всех сил раздирая себе руками зад, вцепившись в него ногтями, наконец она разорвала себя и повалилась на землю, с ужасным шумом царапаясь о дверные замки, как птица с перерезанным горлом. Сэр Эдмонд позволил ей укусить свое запястье. Она долго билась в конвульсиях, лицо ее было все измазано кровью и слюной.
После подобных приступов она всегда возвращалась в мои объятия, ее зад покоился в моих больших руках, и она застывала так, не шевелясь и не говоря ни слова, совсем как ребенок, но с мрачным видом.
Но всем этим непристойным развлечениям, которые придумывал для нас сэр Эдмонд, Симона предпочитала корриду. В бое быков ей особенно нравились три момента: во-первых, когда похожий на огромную крысу бык вихрем выскакивал из загона, во-вторых, когда его рога до основания погружались в бок жеребца, и в-третьих, когда глупый жеребец скакал по арене, а у него между ног болтались внутренности какого-то невероятного белого, розового и перламутрово-серого цвета. А когда из проткнутого мочевого пузыря жеребца на песок выливалась лужа мочи, ее ноздри трепетали.
На протяжении всей корриды охватившие ее ужас и волнение боролись с непрреодолимым желанием увидеть один из страшных ударов рогов быка, в ярости бросавшегося на пустоту цветного полотна, подбрасываемого вверх тореадором. А надо сказать, что, наблюдая, как грозное животное постоянно проскакивает через плащ тореадора на расстоянии всего одного пальца от его тела, испытываешь почти такое же чувство, как во время любовной игры. Близость смерти в эти моменты ощущается одинаково. Наиболее удачные пассы повергают толпу в настоящее неистовство, женщины в подобные патетические мгновения близки к оргазму, настолько напрягаются мышцы их бедер и низа живота.
Как-то сэр Эдмонд, рассказывая про корриду, сказал Симоне, что еще совсем недавно у мужественных испанцев, поклонников тореадоров, было принято просить у служителей арены принести им жареные семенники первого заколотого быка. Их приносили им в первый ряд, где они сидели, и они ели их, наблюдая, как умирает следующий бык. Симона очень заинтересовалась этим рассказом и, так как в следующее воскресенье мы собирались пойти на первую в этом году большую корриду, она попросила у сэра Эдмонда семенники первого убитого быка. Но с одним условием: она хотела, чтобы их принесли ей сырыми.
— Но, — сказал сэр Эдмонд, — что вы будете делать с сырыми бычьими яйцами? Вы же не собираетесь есть их сырыми?
— Я хочу, чтобы их положили передо мной на тарелку, — сказала она.
ГЛАЗ ГРАНЕРО
7 мая 1922 года Ла Роза, Лаланда и Гранеро должны были выступать на аренах Мадрида. Бельмонте жил в Мексике, и Лаланда и Гранеро слыли величайшими матадорами Испании. Большинство признавало Гранеро лучшим. В свои двадцать лет, красивый, высокий, с юношеской сноровкой он достиг уже вершины славы. Симона тоже заинтересовалась им. Когда сэр Эдмонд сообщил ей, что этот знаменитый убийца быков поужинает с нами вечером после корриды, она не могла скрыть своей радости.
Гранеро отличался от других матадоров тем, что нисколько не походил на мясника, внешне он напоминал, скорее, очаровательного мужественного и стройного принца. Всякий раз, когда бык проскакивает мимо матадора, плотно облегающий его ягодицы костюм эффектно подчеркивает линии его крепкого и напряженного как струна тела. Ярко-красная ткань и сверкающая на солнце шпага рядом с умирающим быком, чья истекающая потом и кровью шкура еще дымится, довершают впечатление от завораживающей чарующей игры. Под знойным небом Испании возможно все, а оно, это небо, совсем не слепящее и твердое, как многие его себе представляют, но солнечное, пронизанное удивительным светом, мягкое и тусклое, порой совсем нереальное — так сильно обилие света и жара будоражат чувства и воздействуют на нашу мягкую влажную плоть.
Для меня эта влажная нереальность солнечного света навсегда осталась связана с корридой седьмого мая. Единственные предметы, которые я бережно сохранил — это желтый с голубым веер и посвященная смерти Гранеро популярная брошюра. Когда я садился на пароход, чемодан с этими сувенирами упал в воду (какой-то араб выловил его шестом), они в очень плохом состоянии, но даже такие, грязные и покоробленные, они напоминают мне ту страну, то место, тот день, все, что кажется мне теперь таким далеким и призрачным.
Первый бык, яйца которого заказала Симона, оказался черным чудовищем, так молниеносно вырвавшимся из загона, что, несмотря на все попытки его остановить и крики он успел вспороть животы трем лошадям, прежде чем началась коррида. Он даже поднял на рога лошадь и всадника, так, как будто хотел преподнести их в дар солнцу, и они с грохотом упали ему на спину. В нужный момент Гранеро выступил вперед: дразня быка своим плащом, он забавлялся его яростью. Сопровождаемый бурей оваций молодой человек водил перед быком своим плащом, и каждый раз, когда чудовище как пушечное ядро устремлялось на него, он на палец уклонялся от ужасного удара. Смертельный удар, сразивший ослепительное чудовище, был нанесен матадором без видимого усилия. Овациям не было конца, а в это время жертва с неуверенностью пьяницы упала на колени, потом рухнула, задрав все четыре ноги вверх, и издохла.
Симона стояла между сэром Эдмондом и мной — мы оба были в равной мере возбуждены — сесть на место после оваций она отказалась. Не говоря ни слова, она взяла меня за руку и повела на пропахший мочой двор арены. Я схватил Симону за зад, в то время как она лихорадочно нащупала мой член. Мы зашли в вонючий сортир, где в луче солнца вились крошечные мушки. Раздев девушку, я вонзил в ее влажную кроваво-красную плоть свой розовый член, он погрузился в эту пещеру любви, а я яростно начал теребить ее анус, в то время, как наши рты с ожесточением впились друг в друга. Сотрясший нас и выгнувший наши спины оргазм не уступал по силе оргазму быка, чей член не дрогнул, а возбужденная вульва была вся залита спермой.
Наши сердца, готовые выскочить наружу, громко колотились у нас в груди. Симона со сжимающимся от наслаждения задом, я со все еще стоящим членом — мы оба вернулись в первый ряд. Но на месте, предназначенном для моей подружки, на тарелке покоились два очищенных яйца, эти железы, размерами и формой напоминающие куриное яйцо, были перламутрово белыми, слегка розоватыми от крови, совсем как глазные белки.
— Это сырые яйца, — сказал сэр Эдмонд Симоне с легким английским акцентом.
Симона опустилась на колени перед тарелкой, ее охватила не свойственная ей растерянность. Отлично осознавая свое желание и не зная, как его осуществить, она была близка к отчаянию. Я взял тарелку, чтобы она могла сесть на скамью. Она взяла ее из моих рук и снова поставила на место.
Сэр Эдмонд и я боялись привлечь к себе внимание окружающих. Коррида затягивалась. Наклонившись к уху Симоны, я спросил ее, чего она хочет.
— Идиот, — сказала она, — я хочу сесть на тарелку голым задом.
— Это невозможно, — сказал я, — сядь на место.
Я убрал тарелку и заставил ее сесть. Я смотрел ей в глаза. Мне хотелось показать ей, что я все понял (я тоже думал о тарелке с молоком). Мы уже не могли усидеть на месте. Нас охватило такое волнение, что оно передалось даже невозмутимому сэру Эдмонду. Коррида стала неинтеерсна, появление пугливых матадоров больше не щекотало нам нервы. Симона захотела, чтобы наши места были на солнце, и теперь мы, все мокрые от пота, с пересохшими губами, тонули в потоках света и жары.
Симоне никак не удавалось поднять свое платье и сесть задом на яйца, она по-прежнему держала тарелку в руках. Я хотел было еще раз совокупиться с ней до того, как выйдет Гранеро. Но она отказалась, не в силах оторваться от «упадка и разрушения», так она называла поток кишек, вываливающихся из вспоротых животов лошадей (тогда еще на лошадей не надевали защитных панцирей).
Находясь под длительным воздействием солнечных лучей, мы понемногу утратили чувство реальности, и наше болезненное неудовлетворенное желание сорвать с себя одежду и обнажиться уже не казалось нам таким невозможным. Исказившиеся от солнечного света лица, жажда и смятение чувств, расплылись в одном хаотичном потоке. Появление Гранеро ничего не изменило. Бык вел себя осторожно и игра затягивалась.
То, что последовало за этим, произошло совершенно неожиданно и без какой-либо видимой связи с предыдущими событиями, возможно, на самом деле и была какая-то связь, но, глядя со стороны, я ее не заметил. Я с ужасом наблюдал, как Симона время от времени кусала яйца, а Гранеро продвигался вперед, размахивая перед быком красной тряпкой. Потом Симона, которой кровь ударила в голову, дойдя до крайней степени бесстыдства, обнажила свою вульву и запихнула туда бычье яйцо, Гранеро же, упав на спину, закатился под баллюстраду, и под эту баллюстраду трижды со страшной силой ударили с размаху рога: один рог проткнул ему правый глаз и голову. Ужасающий шум арен совпал с судорогой, пробежавшей по телу Симоны. Приподнявшись с каменной скамьи, она пошатнулась и упала, солнце светило ей прямо в глаза, из носа у нее шла кровь. Несколько мужчин бросились вперед и подхватили Гранеро.
Все зрители вокруг арены вскочили на ноги.
Правый глаз трупа болтался на ниточке.
ПОД СОЛНЦЕМ СЕВИЛЬИ
Два шара одинаковой величины и консистенции были приведены в движение синхронными, направленными в противоположные стороны усилиями. Белое яичко быка вошло в «черную и розовую» плоть Симоны, а глаз из черепа молодого человека был выдавлен. Это совпадение, одновременно связанное со смертью и с чем-то вроде мочеобразного разжижения неба на мгновение вернуло мне Марселлу. В это неуловимое мгновение мне показалось, что я до нее дотронулся.
Нас снова охватила скука. Симона была в плохом настроении и не желала оставаться в Мадриде больше ни одного дня. Она настаивала на поездке в Севилью, слывшую городом развлечений.
Сэр Эдмонд не мог отказать своему «ангелочку». Юг нас встретил солнечным светом и еще более сильным, чем в Мадриде, жаром. Обилие цветов на улицах обостряло чувства до предела.
Симона ходила в легком белом платье, под которым больше ничего не было, отчего сквозь шелк просвечивал пояс и даже иногда, когда она наклонялась, темный пушок. Так получилось, что в этом городе она постоянно была предметом жгучего вожделения. Часто, когда она шла по улице, я замечал, как чей-нибудь член натягивает штаны.
Мы почти все время занимались любовью. Мы останавливались, не достигнув оргазма, и шли гулять.
Оставив одно удобное место, мы отправлялись на поиски другого: музейной залы, аллеи сада, тени церкви или пустынной вечерней улочки. Обнажив тело своей подружки, я устремлял в ее вульву свой член. Потом я быстро вынимал его оттуда и мы шли, куда глаза глядят. Сэр Эдмонд следовал за нами на некотором расстоянии и вдруг внезапно натыкался на нас. Он весь заливался краской, не решаясь подойти к нам ближе. Если он и мастурбировал себя, то скромно, на расстоянии.
— Вот это весьма любопытно, — сказал он нам однажды, указывая на церковь — это храм Дон-Жуана.
— Да что вы? — удивилась Симона.
— Хотите войти в церковь одна? — предложил сэр Эдмонд.
— Зачем?
Не знаю зачем, но Симона вошла, а мы остались ждать ее у двери.
Когда она вернулась, мы не могли понять, что с ней: она так смеялась, что была не в состоянии говорить. Это оказалось так заразительно, к тому же ярко светило солнце, что я тоже начал смеяться, а под конец расхохотался даже и сэр Эдмонд.
— Bloody girl! — воскликнул англичанин, — объясните же нам что-нибудь наконец! Или мы так и будем смеяться, стоя на могиле Дон-Жуана?
И не прекращая смеяться, он указал на широкую медную доску под нашими ногами, закрывавшую могилу основателя храма, которым, по слухам, был Дон-Жуан. Он велел, чтобы его после повешения похоронили у входной двери, дабы быть попираемым ногами самых низких существо.
Мы засмеялись еще сильнее. От смеха Симона описалась: на медную доску потекла струйка мочи.
Этот казус имел еще одно последствие: мокрая ткань платья прилипла к телу и стала прозрачной, сквозь нее отчетливо проступил черный лобок.
Наконец Симона успокоилась.
— Я вернусь в церковь, мне нужно высушиться, — сказала она.
Мы очутились в зале, где не обнаружили ничего, что могло бы послужить причиной смеха Симоны, там было относительно свежо и сквозь красные кретоновые занавески просачивался свет. Сверху находилась искусно смонтированная несущая конструкция, белые стены были украшены статуями и картинами, позолоченный алтарь поднимался вдоль задней стены до балок несущих перекрытия. Это феерическое, по-восточному роскошное убранство из-за своих многочисленных украшений, завитков и витиеватых узоров своими тенями и блеском золота напоминало укромные места человеческого тела. По обе стороны от двери висели знаменитые полотна Вальдеса Леаля с изображением разлагающихся трупов: в пустую глазницу епископа влезает огромная крыса…
Чувственный и торжественный ансамбль, переливы красного цвета из-за занавесок, свежесть и запах олеандров и бесстыдство Симоны заставили меня совсем потерять голову.
Я заметил две обтянутые шелком ноги заходящей в исповедальню кающейся грешницы.
— Я хочу на них посмотреть, — сказала Симона.
Она уселась перед мной у исповедальни.
Я хотел, чтобы она взяла в руку мой член, но она отказалась, угрожая, что станет дрочить его так, что сразу же брызнет сперма.
Я был вынужден сесть, ее темный пушок проступил сквозь мокрый шелк.
— Ты сейчас сам все увидишь, — сказала мне она.
Спустя некоторое время из исповедальни вышла очень красивая женщина. Руки ее были сжаты, с бледным лицом и запрокинутой в экстазе головой, с выпученными глазами она опереточной походкой медленно прошла через зал. Я сжал зубы, чтобы не расхохотаться. В этот момент дверца исповедальни открылась.
Оттуда вышел светловолосый священник, еще совсем молодой и тоже очень красивый, у него были впалые щеки и бесцветные глаза святого. Он стоял, скрестив руки, на пороге своего саркофага, устремив взгляд в какую-то точку на потолке: так, как будто собирался взлететь на небо вслед за небесным видением.
Он наверняка тоже бы ушел, но к моему удивлению, Симона остановила его. Она поздоровалась с мечтателем и попросила об исповеди…
Все с тем же отрешенным видом священник указал место для кающейся: скамеечку за занавеской, потом, не говоря ни слова, снова зашел в свой саркофаг и закрыл за собой дверь.
ИСПОВЕДЬ СИМОНЫ И МЕССА СЭРА ЭДМОНДА
Нетрудно представить мое изумление. Симона за занавеской встала на колени. Пока она там что-то шептала, я с нетерпением ждал конца этой дьявольщины. Мне казалось, что этот неприятный тип не выдержит, выскочит из своей коробки и набросится на нечестивицу. Но ничего подобного не произошло. Симона продолжала что-то непрерывно говорить тихим голосом за зарешеченным окошечком.
Мы с сэром Эдмондом обменивались удивленными взглядами, но тут все наконец прояснилось. Симона расставила ноги и начала тихонько гладить себя по бедрам. Она вся изогнулась, оставив одну ногу на скамеечке для молитвы. Она высоко задрала свое платье и в таком виде продолжила свои признания. Мне даже показалось, что она начала мастурбировать.
Я подкрался на цыпочках поближе.
И действительно, Симона мастурбировала, прижавшись к решетке рядом со священником, ноги ее было широко расставлены, тело напряжено, пальцы погружены в волосы. Я мог до нее дотронуться, моя рука дотянулась до ее ануса. В этот момент я отчетливо услышал, как она
говорит:
— Отец мой, я не призналась в самом тяжком.
Последовало непродолжительное молчание.
— Самое тяжкое мое прегрешение, отец мой, заключается в том, что, говоря с вами, я мастурбирую!
После этого несколько секунд был слышен только шепот. Наконец раздался громкий голос:
— Если ты не веришь, можешь посмотреть.
И Симона, задрав платье, встала перед окошечком, продолжая мастурбировать, поглаживая себя ловкой и уверенной рукой.
— Ну так что, кюре, — закричала Симона, с силой стучась в саркофаг, — что ты там делаешь в своей клетушке? Ты небось тоже дрочишь?
Но в исповедальне по-прежнему было тихо.
— Тогда я сама посмотрю.
Внутри с опущенной головой, утирая струившийся со лба пот, сидел наш мечтатель. Девушка пощупала его сутану, он не шелохнулся. Тогда она задрала его уродливую черную юбку и вытащила его длинный розовый и твердый член: он сидел с искаженным лицом, откинув голову назад, воздух со свистом вырывался сквозь зубы. Он позволил Симоне взять этот скотский отросток в рот.
Мы с сэром Эдмондом застыли в изумлении. Восхищение буквально пригвоздило меня к месту. Я не знал, что делать, но тут загадочный англичанин подошел к ним. Он осторожно отстранил Симону. Потом, схватив этого червяка за запястье, вытащил его из его норы и уложил на плиты к нашим ногам: этот омерзительный тип был неподвижен, как мертвец, слюна капала у него изо рта на пол. Мы с англичанином отнесли его в ризницу.
Со свисающим из расстегнутой ширинки членом и мертвенно-бледным лицом он не сопротивлялся, а только тяжело дышал, мы взгромоздили его на огромное величественное кресло.
— Сеньоры, — проговорил несчастный, — теперь вы считаете меня лицемером!
— Нет, — категорическим тоном возразил сэр Эдмонд.
Симона спросила его:
— Как тебя зовут?
— Дон Аминадо, — ответил тот.
Симона отвесила этой божьей твари пощечину. От удара у твари опять встал. Мы раздели его, и Симона, присев по-собачьи, помочилась на его одежду. Потом Симона помастурбировала священника и взяла его член в рот. А я вошел в зад Симоны.
Сэр Эдмонд наблюдал эту сцену с таким выражением на лице, будто выполнял hard labour. Он осмотрел всю залу, где мы находились. На гвозде он обнаружил ключик.
— От чего этот ключ? — спросил он Дона Аминадо.
По испугу, пробежавшему по лицу священника, он догадался, что это ключ от дарохранительницы.
Спустя некоторое время англичанин вернулся, держа в руках украшенную напоминавшими амуров голыми ангелочками дароносицу.
Дон Аминадо пристально смотрел на этот поставленный на землю сосуд Господень, его прекрасное лицо идиота, судорожно искажавшееся от прикосновения зубов Симоны, теребившей его член, приобретало все более дикое выражение.
Англичанин забаррикадировал дверь. Порывшись в шкафах, он обнаружил большой потир. Он попросил нас на минуту оторваться от несчастного.
— Взгляни, — сказал он Симоне, — вот просвирки в дароносице, а вот потир, куда наливают вино.
— Пахнет спермой, — сказала она, понюхав пресные хлебцы.
— Именно, — продолжал англичанин, — просвирки, которые ты видишь перед собой и являются испеченной в форме гостий спермой Христа. А что касается вина, то служители культа утверждают, что это кровь. Но они обманывают нас. Если бы это действительно была кровь, то они бы пили красное вино, но они пьют белое, прекрасно зная, что на самом деле это моча.
Его доводы показались нам достаточно убедительными. Симона вооружилась дароносицей, а я завладел потиром: Дон Аминадо трясся мелкой дрожью в своем кресле.
Симона с силой ударила его по голове ножкой дароносицы, он покачнулся и окончательно потерял рассудок. Она снова принялась сосать его. Он издавал омерзительные стоны. Она почти довела его до исступления, а потом сказала:
— Это еще не все, теперь нужно помочиться.
И ударила его второй раз в лицо.
Она разделась перед ним, а я стал ее онанировать.
Англичанин с таким суровым видом глядел в глаза молодого идиота, что тот не заставил себя долго упрашивать. Дон Аминадо быстро наполнил мочой потир, который Симона держала перед его членом.
— А теперь пей, — сказал сэр Эдмонд.
Несчастный, впав в глубокий транc, выпил.
Симона снова присосалась к его члену, а он трагически завопил от удовольствия. В объятиях четырех мощных рук, расставив ноги и изогнувшись всем телом, он изверг с поросячьим визгом свое семя на облатки в дароносице, которую поддерживала под ним дрочившая его Симона.
ЛАПКИ МУХИ
Мы бросили эту тварь на пол. Он с грохотом рухнул на каменные плиты. Мы были так возбуждены, что нас уже невозможно было остановить. Член священника обмяк. А сам он, раздавленный стыдом, ползал по полу. Его мошонка была пуста и содеянное им преступление терзало его. Мы услышали, как он простонал:
— Несчастные святотатцы…
И еще что-то жалобно проблеял.
Сэр Эдмонд пнул его ногой. Этот скот подскочил и яростно завопил. Он был так смешон, что мы расхохотались.
— Вставай, — приказал сэр Эдмонд, — сейчас ты будешь трахать girl.
— Нечестивцы, — продолжал угрожать священник приглушенным голосом, — испанское правосудие… каторга… виселица…
— Он забывает, что это его сперма, — заметил сэр Эдмонд.
В ответ последовали животные судороги, гримасы и шепот:
— Меня тоже… на виселицу… но вас… в первую очередь…
— Идиот, — расхохотался англичанин, — в первую очередь! Ты думаешь, они будут разбираться?
Идиот взглянул на сэра Эдмонда и на его красивом лице отразилась беспросветная глупость. В приливе неожиданной радости он приоткрыл рот и, скрестив руки на груди, устремил к небесам восторженный взгляд и прошептал слабым умирающим голосом:
— мученическая смерть…
У несчастного снова мелькнула надежда на спасение, казалось, что его глаза засветились.
— Для начала сообщу тебе кое-что, весьма интересное, — сказал сэр Эдмонд. — Известно, что у повешенных в момент удушения член напрягается так сильно, что они спускают. Так вот, ты будешь мучиться, но при этом все равно будешь трахаться.
Испуганный священник выпрямился, но англичанин заломил ему руку и толкнул на каменные плиты.
Сэр Эдмонд связал ему руки за спиной. Я вставил ему в рот кляп и спутал ноги своим поясом. Англичанин лег на пол и крепко держал его за руки, а его ноги, чтобы они не дергались, он обвил своими. Я стоял на коленях, сжав его голову своими ляжками.
Англичанин сказал Симоне:
— Теперь можешь сесть верхом на эту церковную крысу.
Симона сняла платье. И уселась на живот мученика так, что ее зад был рядом с его обвисшим членом.
Англичанин, лежа под телом жертвы, продолжал:
— Теперь возьми его за горло под адамовым яблоком и начинай медленно сжимать.
Симона схватила его за горло: дрожь пробежала по неподвижному телу, а член напрягся. Я взял его и рукой ввел в плоть Симоны. Она продолжала сжимать его горло.
Девушка, опьяненная близостью смерти, лихорадочно ерзала на прямом, пронзившем ее влагалище члене. Мускулы кюре напряглись.
Наконец она сжала его горло так сильно, что по телу умирающего пробежала судорога и она почувствовала, как ее заливает сперма. Она ослабила хватку и в сладком изнеможении повалилась на спину.
Симона лежала на каменных плитах пола животом вверх и по ее бедрам стекала сперма мертвеца. Мне тоже захотелось ее и я лег. Я чувствовал себя парализованным. Избыток желания и смерть несчастного окончательно истощили меня. Никогда еще я не был так близок к полному удовлетворению. И я ограничился тем, что совокупился с Симоной через рот.
Девушка хотелось получше рассмотреть свою жертву и, отстранив меня, она встала. Она снова взгромоздилась своим голым задом на обнаженный труп. Наклонившись к его лицу, она вытерла пот с его лба. Слышалось жужжание мухи, постоянно кружившейся в луче света над мертвецом. Она отмахнулась от нее, но внезапно невольно вскрикнула. Произошло что-то странное: усевшаяся на открытый глаз мертвеца муха тихонько скользнула по глазному яблоку. Симона вздрогнула и, тряхнув головой, обхватила ее руками. Я видел, что ее захватил водоворот мыслей.
Может быть, это странно, но нам было совершенно наплевать на то, чем это кончится. Если бы здесь и появился какой-нибудь нахал, мы бы не позволили ему долго возмущаться… Наплевать. Симона, пробудившись от оцепенения, встала и подошла к сэру Эдмонду, который стоял, прислонившись к стене. Слышно было, как жужжит муха.
— Сэр Эдмонд, — сказала Симона, припав щекой к его плечу, — вы сделаете то, что я хочу?
— Я это сделаю… скорее всего, — ответил ей англичанин.
Она подвела меня к мертвецу и, встав на колени, раздвинула его веки, приоткрыв глаз, на поверхность которого снова села муха.
— Ты видишь глаз?
— Ну и что?
— Это яйцо, — просто сказала она.
— Что ты хочешь сделать?
— Я хотела бы с ним поиграть.
— Как это еще?
Когда она поднялась, мне показалось, что она вся налилась кровью (в ее наготе было что-то ужасное).
— Послушайте, сэр Эдмонд, — сказала она, — мне нужен этот глаз немедленно, вырвите его.
Сэр Эдмонд не дрогнул, а, достав из бумажника ножницы, опустился на колени, разрезал ткани, засунул пальцы в глазницу и вытащил глаз, обрезав натянувшиеся связки. Белый шарик он вложил в ладонь моей подружки.
Взглянув на эту вещицу, она слегка смутилась, но решимость ее нисколько не поколебалась. Поглаживая себя по бедрам, она засунула глаз себе между ног. Глаз нежно ласкал ее кожу… в нем таился отзвук страшного петушиного крика.
Симона, играя глазом, захотела засунуть его себе в щель между ягодиц. Она легла на пол и задрала ноги. Пытаясь удержать шарик, она сжала ягодицы, но он выскочил оттуда — как скользкий орех из пальцев руки — и упал на живот мертвеца.
Англичанин помог мне раздеться.
Я бросился на девушку и ее вульва мгновенно поглотила мой член. Я трахал ее, а англичанин перекатывал мертвый глаз между наших тел.
— Засуньте мне его в попку — закричала Симона.
И сэр Эдмонд засунул шарик в ее щель.
Наконец Симона, оторвавшись от меня, взяла шарик из рук сэра Эдмонда и сама ввела его в себя. Одновременно она снова привлекла меня к себе и с такой страстью впилась в мои губы, что довела меня до оргазма, и я изверг в нее всю свою сперму.
Приподнявшись, я раздвинул ноги Симоны: она лежала на боку. И тут я натолкнулся на то, чего, мне кажется, я ждал всегда, как гильотина ждет приговоренного к отсечению головы. Мне показалось, что даже мои глаза от ужаса ощутили эрекцию: я увидел в волосатой вульве Симоны бледно-голубой глаз Марселлы, который смотрел на меня, истекая слезами мочи. Следы спермы в дымящихся волосах делали это видение исполненным болезненной грусти. Я продолжал раздвигать ноги Симоны: струйка горячей мочи, выбившись из-под глаза, стекала на бедро…
Мы с сэром Эдмондом отрастили черные бороды, Симона надела на себя смешную черную шелковую шляпку, украшенную желтыми цветами, в таком виде, наняв машину, мы покидали Севилью. Подъезжая к другому городу, мы снова решили изменить свой облик. Через Ронду мы проехали переодетые в испанских кюре, в черных фетровых шляпах, кутаясь в плащи и с огромными сигарами в зубах. На Симоне был костюм семинариста, в котором она еще больше была похожа на ангела.
Путешествуя подобным образом, мы исколесили всю Андалузию, страну желтой земли и солнечного света, напоминающую огромный, наполненный светом ночной горшок, где я, каждый день принимая новое обличье, насиловал новую Симону прямо на земле под южным солнцем и сэр Эдмонд глядел на нас своими воспаленными глазами.
Через четыре дня в Гибралтаре англичанин купил яхту.
РЕМИНИСЦЕНЦИИ
Перелистывая однажды американский журнал, я обратил внимание на две фотографии. На первой была улица заброшенной деревушки, в которой когда-то жили мои родители. На второй — развалины соседнего замка. С этими развалинами на вершине скалы связан один эпизод моей жизни.
Когда мне был двадцать один год, я проводил лето в доме моих родителей. Однажды мне взбрело в голову сходить ночью на эти развалины. Меня сопровождала моя мать и группа целомудренных девушек (в одну из девушек я был влюблен и она разделяла мое чувство, но мы никогда об этом не говорили: она была очень набожна, и, собираясь посвятить свою жизнь Богу, колебалась). Ночь была темной. Мы уже карабкались по крутым склонам, над которыми возвышались стены замка, когда вдруг возникший из трещины в скале белый светящийся призрак преградил нам путь. Одна из девушек и моя мать упали без чувств. Остальные закричали. Хотя я с самого начала не сомневался, что это розыгрыш, меня тоже охватил самый настоящий ужас. Я приблизился к призраку и крикнул ему, чтобы он оставил свои шутки, но горло у меня сжималось от страха. Призрак исчез, и я увидел, как убегает мой старший брат, который, договорившись с приятелем, обогнал нас на велосипедах и напугал, закутавшись в простыню, освещенную светом ацетиленовой лампы: декорации представлялись сами собой, и постановка была великолепна.
В тот день, когда я читал журнал, я как раз только что описал эпизод с простыней. Простыню я видел в левом окне замка, и призрак тоже появился с левой стороны замка. Оба образа наложились один на другой.
Но это еще не самое интересное.
Я давно уже старался представить себе во всех деталях сцену в церкви, и, в частности, то, как вырывают глаз. Однако в этой сцене я обнаружил вполне реальную подоплеку, и я связываю ее с рассказом о знаменитой корриде, на которой я действительно присутствовал — дата и имена соответствуют действительности, Хэмингуэй в своих книгах неоднократно упоминает их — сперва я не делал никаких сопоставлений, но, рассказывая о смерти Гранеро, я окончательно в этом убедился. Вырывание глаза явилось не просто плодом моего воображения, а переносом на вымышленный персонаж вполне определенной раны, полученной на моих глазах реальным человеком (во время единственного смертельного случая, который мне довелось наблюдать). Таким образом, две наиболее ярко запечатлевшихся в моей памяти картины вышли из нее в совершенно неузнаваемой форме, после того, как я сам достиг крайнего цинизма в изображении жизни.
Я сделал и второе открытие. Закончив рассказ о корриде, я прочитал одному моему знакомому врачу первоначальную версию этого рассказа. Я никогда не видел очищенные яйца быка. И считал, что они ярко-красного, того же, что и член, цвета. В тот момент эти яйца казались мне не сравнимыми с куриным яйцом или глазом. Мой знакомый заметил мою ошибку. Мы открыли том анатомии, и я убедился, что яйца человека и быка имеют яйцевидную форму и своим внешним видом и цветом напоминают глазное яблоко.
Впрочем, постоянно употребляемые мной образы связаны и с другого рода воспоминаниями.
Мой отец был сифилитиком. Он ослеп (в момент моего зачатия он уже был слепым), а когда мне было два или три года, его еще и парализовало. В раннем детстве я обожал своего отца. Парализованность и слепота, ко всему прочему, имели еще ряд последствий: он не мог, как все остальные, мочиться в предназначенных для этого местах, а писал в специальный сосуд, сидя в своем кресле. Он писал, сидя прямо передо мной, под одеялом, но он ничего не видел, и оно его плохо закрывало.
Но самым необычным был его взгляд. Его незрячий зрачок закатывался под веко: обычно это происходило в момент мочеиспускания. Глаза на его худом, напоминавшем орлиный клюв лице, всегда были широко открыты. А когда он мочился, его глаза становились почти белыми, и у него на лице появлялось выражение растерянности, ему в эти мгновения открывался какой-то невозможный, доступный ему одному мир, который вызывал у него отчужденный смех. Эти белые глаза связаны у меня в сознании с образом яиц, вот почему в моих рассказах глаза и яйца всегда соседствуют с мочой.
Отметив эти странные ассоциации, мне кажется, я могу указать еще на одно обстоятельство, связанное с самым тяжелым воспоминанием моего детства, которое должно помочь лучше понять главную суть всего рассказа в целом.
С возрастом моя любовь к отцу сменилась бессознательным отвращением. Я уже почти не реагировал на крики, которые он испускал от острых болей, вызванных сухоткой спинного мозга (врачи считают эти боли одними из самых жестоких). Состояние дурнопахнущей неопрятности, к которому в целом сводились его болезни (случалось, что он ходил прямо под себя) тогда не казалось мне особенно тяжелым. Я старался во всем противоречить ему.
Однажды ночью мы с матерью были разбужены громким разговором, который калека вел сам с собой у себя в комнате: он внезапно сошел с ума. Врач, за которым меня послали, явился очень быстро. Отец обсуждал сам с собой какие-то чрезвычайно радостные события. Когда врач с моей матерью вышел в соседнюю комнату, безумец завопил зычным голосом:
ПОСЛУШАЙ, ДОКТОР, КОГДА ЖЕ ТЫ ПЕРЕСТАНЕШЬ ТРАХАТЬ МОЮ ЖЕНУ!
Он расхохотался. Эта фраза, сведшая к нулю весь длительный процесс моего строгого воспитания, оставила во мне, помимо ужасного веселья, постоянную бессознательную потребность искать в своей жизни и мыслях ее эквиваленты. Может быть, этим можно объяснить появление «Истории Глаза».
Теперь мне хотелось бы покончить с наиболее жуткими переживаниями своего детства.
Я не могу полностью идентифицировать Марселлу с моей матерью. Марселла — это незнакомка лет четырнадцати, однажды сидевшая рядом со мной в кафе. И тем не менее…
Спустя несколько недель после приступа безумия моего отца, моя мать, после ужасной сцены, которую в моем присутствии закатила ей бабушка, в свою очередь тоже потеряла рассудок. Она впала в состояние длительной депрессии. Завладевшие ею навязчивые идеи тяготили меня гораздо больше необходимости постоянно за ней присматривать. Ее бред пугал меня до такой степени, что однажды ночью я даже снял с камина двва тяжелых канделябра на мраморных подставках: я боялся, что она меня убьет во время сна. Я дошел до того, что выйдя из терпения, в отчаянии заломил ей руки и ударил ее. Мне хотелось снова заставить ее рассуждать здраво.
Однажды моя мать, воспользовавшись мгновением, когда я отвернулся, исчезла. Мы долго ее искали, наконец мой брат нашел ее повесившейся на чердаке. Правда, нам удалось вернуть ее к жизни.
Потом она пропала во второй раз: я долго искал ее у ручья, в котором она могла утопиться. Я обежал все окрестные болота. Наконец я увидел ее на дороге: она была до пояса мокрая и с ее юбки ручьем стекала вода. Она сама вылезла из ледяной воды ручья (дело было в разгаре зимы), в том месте было слишком мелко, и утопиться она не смогла.
Обычно я стараюсь не думать обо всем этом. Прошло столько лет и эти воспоминания почти не трогают меня: время их нейтрализовало. Они смогли снова появиться на свет только в деформированном до неузнаваемости виде, обретя, в ходе этой деформации циничный смысл.
ПЛАН ПРОДОЛЖЕНИЯ «ИСТОРИИ ГЛАЗА»
После пятнадцати лет беспросветного разврата Симона оказывается в лагере пыток. Правда, случайно: история мучений, слез, бессмысленных страданий, Симона на грани обращения, ее пытается наставить на пусть истинный иссохшая женщина, богомолка из Севиллльи. Ей уже 35 лет. Когда она попадает в лагерь, она еще красива, но старость постепенно подкрадывается к ней и это необратимо. Эффектная сцена с богомолкой и женщиной-палачом: богомолку и Симону забивают до смерти, Симона остается верна себе. Она умирает так же, как занималась любовью, отдавшись целомудренной и равнодушной смерти: лихорадка и агония искажают ее лицо. Палач продолжает ее бить, но она уже не воспринимает ни ударов, ни слов богомолки, ее сотрясают предсмертные судороги. Это уже не эротическое наслаждение, а нечто гораздо большее. Вечное. Это даже не мазохизм, в сущности, это экзальтация гораздо больше того, что вообще можно себе представить, она превосходит все. Но в основе ее лежат все те же одиночество и отсутствие смысла.
КОНЕЦ
© Перевод с французского Маруси Климовой и Вячеслава Кондратовича