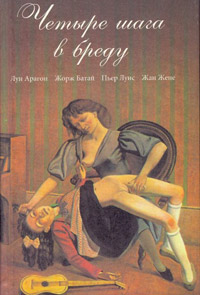От переводчиков
Луи Арагон (1897-1982) — коммунист, французский поэт, муж Эльзы Триоле. до встречи с Эльзой Триоле в 1928 году Арагон был связан с сюрреалистами. Андре Тирион, автор книги «Революционеры без Революции», настаивает, что сюрреалисты старались «любить один раз и на всю жизнь», хотя и поощряли проституцию и сами пользовались ее услугами. Но это можно объяснить романтизмом и тем, что среди сюрреалистов не было женщин. Рассматривая обычные жизненные явления с неожиданной стороны, они пытались разбудить дремлющие инстинкты и тем самым спровоцировать работу ума. Они считали материалистическое общество поверхностным и искаженным, утратившим истинный смысл. Сюрреалисты выступали против общепринятых взглядов и ценностей, и были в этом смысле революционерами. Их книги издавались подпольно, без имен авторов, так как между 1918 и 1938 годами общество старательно оберегали от «откровений, посягающих на разрушение морали». Андре мальро — будущий министр культуры — написал предисловие к «Любовнику леди Чаттерли», оправдывая публикацию тем, что «эротизм тоже является своего рода ценностью». Об этой книге Луи-Фердинанд Селин потом пренебрежительно сказал: «Жалкий хуишко, растянутый на 400 страниц!»
На улице Шато, где часто собирались сюрреалисты (а главный кабинет, где заседал «отец» Бретон, находился на улице Фонтен), Арагон часами читал вслух «Одиннадцать тысяч палок» Аполлинера, которая сегодня уже стала классикой, а тогда продавалась из-под полы. Книги такого рода издавались минимальными тиражами (около 100 экземпляров), продавались в специальных магазинах, выставленные не на прилавках, а под ними. Стоили они очень дорого, поэтому купить их могли лишь немногие, к тому же широкая публика ничего о них не знала, так как их выход в свет нигде не комментировался. Сюрреалистов объединяли бедность и ненависть к буржуазии и ее вкусам. Хотя Арагон, в отличие от Бретона, одевался а-ля денди и любил светские вечеринки и ночные клубы.
Среди архивов леди нэнси кунар были найдены рукописные страницы «Пизды Ирены» Арагона. Можно сказать, что это не удивительно, так как она сама была издателем. Но ее роман с Арагоном, начавшийся в конце 1925 года, наводит на мысль, что Нэнси могла иметь прямое отношение к этому «лучшему, красивейшему тексту, затрагивающему эротизм» (как охарактеризовал его Альбер Камю). Возможно, этот текст посвящен именно ей. Английская аристократка Нэнси Кунар (сохранились ее фотографии, сделанные Маном Реем и Сесилем Битоном, где она запечатлена со своей знаменитой коллекцией браслетов слоновой кости, доходящих ей до локтей) происходила из известной семьи, ее филадельфийский предок, получивший титул от королевы Виктории, был основателем линии пароходов Кунар. Как вспоминает Андре Тирион, ее часто видели пьяной, онат была драчливой и сама порой появлялась со следами побоев на лице. В 20-е годы она оказалась в Париже, где открыла небольшое издательство «Hour Press». Она первой издала Беккета, «Cantos» Эзры Паунда (с которым состояла в дружеской переписке), Арагона. Она увлекалась джазом, который пришел во Францию из Америки, и завела себе черного любовника. Что это значило в 20-е годы для английской аристократки — сегодня уже трудно представить.
Когда Арагон познакомился с Нэнси, ему было 28 лет, а ей — на год больше. Он был красив, его яркие голубые глаза притягивали женщин. Не удивительно, что нэнси тоже увлеклась Арагоном. А после короткого и бурного романа несчастный Арагон ушел к Эльзе Триоле, о которой отец сюрреализма Бретон говорил: «Это — прямая противоположность женщины». Недаром Триоле смогла приручить Арагона, диктовала ему свою волю и управляла им, как марионеткой. Возможно, именно поэтому Арагон даже в 1968 году отказался от авторства «Пизды Ирены», хотя его союз с Эльзой расценивался многими как «коммерческий фонд» (Жюльен Грак). И не удивительно, что после ее смерти Арагон оказался во власти чар юношей. В журнале «Сюрреалистическая революция» печатали известный тогда и конфискованный цензурой текст «Свобода или любовь», манифесты в защиту «техники любви», реабилитации де Сада. Первая книга Арагона называлась «Либертинство», хотя не имела ничего общего с де Садом. «Пизда Ирены» остается в некотором смысле портретом юности автора. Это — дошедшая до наших дней часть «Защиты бесконечности» — одного из самых противоречивых произведений Арагона.
Жан-Жак Повер хотел переиздать «Пизду Ирены» под действительным именем автора еще в 1968 году, и Арагон, к которому он обратился за разрешением, отвечал ему исключительно в третьем лице: «…автор отказывается… автор запрещает… для автора невозможно…», тем самым как бы подчеркивая еще раз свою непричастность к созданию этого текста. А жаль. Конечно, дальнейшие политические (и эстетические!) пристрастия одного из «создателей социалистического реализма» почти полностью заслонили этот, пожалуй, самый интересный «сюрреалистический» период его творчества. Читая повесть, невольно ловишь себя на мысли, что Арагон, подобно его знаменитому русскому другу и учителю, был когда-то настоящим поэтом, но впоследствии «себя смирил, становясь на горло собственной песне».
ЛУИ АРАГОН
«ЛОНО ИРЕНЫ»
Перевод с французского Маруси Климовой и Вячеслава Кондратовича
Не будите меня, Христом Богом молю скоты не будите меня, осторожнее я могу укусить я уже почти вышел из себя. Снова этот ужасный день снова подлость неуверенность злоба. Мне хочется вновь раствориться в темном море довольно вспышек молний что означают эти постоянные грозы вы хотите заставить меня греметь как гром вместо ушей у меня куски жести при каждом вздохе в моей груди взрывается метан а шахтеры убегают в подземные галереи тоски все взлетает на воздух на воздух и прекрасно прекрасно. Но это же не день а динамит. В мои веки вонзаются шпаги в мое горло впиваются пальцы о мою кожу трется гравий пробуждения. Не выталкивайте меня из сферы снов я вцепился в нее когтями моя плоть приросла к ночной темноте ночь у меня во рту моя кровь отказывается течь. Я сплю о Господи сплю.
Сволочи я сейчас закричу я уже кричу сволочи дети ебаных в рот устриц молитесь своему доброму Боженьке ублюдки сортирная вонь спущенные петли на чулках у шлюх жабы лакеи гнойные скользкие вонючие черви оставьте меня в покое бляди торчащие из-под мышек волосы стриженые вшивые лобки крысиный жир помои грязные помои отбросы отвяжитесь от меня а не то я вас уничтожу я вас по стенке размажу я вам яйца оторву я вам нос откушу я вас я вас в порошок сотру.
Смерть смерть они же меня сейчас разбудят они уже будят меня. Ко мне ветры бури циклоны. Ониксовая глубь зеркал тьма зрачков траур грязь фотографии тараканы преступления эбен бетель африканские сфинксы с человеческими лицами святоши ко мне кровь каракатиц отработанная смазка жевательный табак гнилые зубы нордвесты чума ко мне грязь и меланхолия густая смола паранойя страх ко мне как только исчезнут свистящие сумерки как только начнется зарница пожаров в угольных городах и торфяниках вонючие испарения железных дорог в каменных городах все эти декорации безлунных ночей все что рассыпается перед глазами на пятна на мух на искры на мелькание смерти на вопли на отчаянные плевки сока акации корни цикория ярость гниющие трупы магия мускат тюлени и коллоидные колодцы без дна. Ко мне темнота.
Желчные жопы блевотина бляди бляди свиньи суки индийские рабы похлебка из говна и мочи кровавые плевки менструации отрыжка испражнения каракатиц клейкие сопли слюни вы вы гной липкая сперма гнусная сукровица нарывы дырявые мочевые пузыри дряблые прелые обвисшие пизды чесночная вонь.
Если вы любили хоть раз в жизни не будите меня если вы любили!
Мои дела шли настолько плохо, что я впал почти в полную нищету, неотвязные мысли об одной ужасной истории, которую мне хотелось поскорее забыть, давили на меня еще сильнее, чем нищета, и вынудили принять приглашение моих родителей, живших в провинции. Однако, приехав в городок С… со своими навязчивыми идеями, я не нашел того отдыха, что ожидал. Я не создан для семейной жизни. Я старался свести ее к минимуму. Меня видели лишь за едой. Остальное время я проводил в прогулках и еще чаще — в мечтах, расположившись в своей комнате, подальше от окна, которое выходило на унылую безлюдную улицу, окруженную серыми домами, так наглядно демонстрировавшими всю угрюмость восточной французской провинции. Город рано ложился спать и рано вставал, как будто специально для того, чтобы будить меня стуком ставень, потому что можно было дойти до перекрестка и не встретить на дороге ни одного человека, кроме холуйского вида прилизанных ординарцев, ведущих под уздцы лошадей артиллерийских офицеров. Три или четыре кафе открывались только к одиннадцати часам и тогда вам под ноги под предлогом мытья полов могли выплеснуть ушаты грязной воды, следом, в сопровождении торопливых извинений, летел песок и оседал у вас на деснах. Эти заведения были крайне убогими, с такими просиженными стульями, что воспользоваться ими можно было только в самом крайнем случае, с невероятно грязными столами и воистину гнетущим трауром зеркал, которые мухи сделали похожими на грязные ногти мальчишек. Самое привлекательное из этих романтичных мест находилось на ободранной площади, недалеко от военного квартала, в этом заведении был красный бархат и зеркала в резных рамках. Кроме того, там тебя сразу же оглушал грохот бильярда, оттого, что, благодаря неудачной акустике в зале, эхо вторило каждому удару кия по шарам. Посетив пару раз этот райский уголок, я уже знал всех постоянных посетителей в лицо, пять или шесть человек, трое из которых — офицеры со своими подружками в качестве десерта. Громовой голос сразу же обрушил на меня всю подноготную частной жизни города С… Появление нового слушателя оживило разговор на целых три дня. Я узнал, что жена профессора Унтеля весьма распущенная особа. Ходили сплетни и о жене часовщика, но точно ничего известно не было. А вот в окне у почтовой служащей видели кое-кого, кого могли назвать даже по имени, об этом знали уже все. Больше я в это кафе не ходил.
В течение некоторого времени меня занимали деревня и лес. Потом я почувствовал к ним ужасное отвращение и заперся у себя в комнате. Поразительно долго тянувшееся время, невыносимая пунктуальность трапез, чтение книг из домашней библиотеки и, особенно, навязчивые воспоминания быстро вызвали во мне желание бежать из этих Богом забытых мест. Но как? Я снова натыкался на завладевший моим сознанием образ, от которого тщетно пытался избавиться. В сущности, мне не в чем было упрекнуть эту женщину, кроме того, что она меня не любила. Даже если ей самой казалось, что это не так. Она была так невероятно похожа на жемчужину. Внешне. Она вся светилась, совсем как жемчужина. Чтобы избавиться от этого наваждения, я пытался переключиться на других женщин. Я снова начал выходить, смотреть по сторонам. И ни черта. Французская провинция. Уродство француженок. Убожество их тел и волос. Дерьмо. Ну да ладно.
Этот проклятый член — настоящее исчадие ада. Сперва он почти незаметен. Его не чувствуешь. Потом, со временем, он тяжелеет. Поднимается, твердеет. Лично меня от этого тошнит. Не обязательно, но приблизительно после завтрака такая… такое недомогание, нужно куда-то идти. Однако у меня довольно умеренный темперамент. Нормальный. Без излишеств. Я не способен на любовные подвиги. Сделав это один раз, мне не всегда хочется повторить. Часто у меня и встает с трудом. Но я плохо переношу длительное воздержание. Может быть, все дело в кровообращении. Но пока это меня просто разрушает. Невозможно больше ни о чем думать. Действительно, в С… остается только дрочить. Мечтая о том, что находится между ног. Подружки офицеров скучают, пока их яйценосцы заняты учениями. Можно было бы предложить выпить и потрепаться. Это бы немного просветило меня в отношении гарнизона. Но я уже сыт по горло дешевыми интригами, липовыми добродетелями и имитацией сопротивления. Нет, больше я не выдержу. Лучше уж дрочить. Легко сказать, может, для вас это и выход из положения. Но не для меня. Ну, я теребил немного, потом, так как в этой проклятой комнате не хватало воздуха, я высовывался из окна и осматривал улицу. Увы, пробуждению любовного вдохновения вовсе не способствовал поднимающийся с мостовой пошлый кухонный запах, столь характерный для нашей героической Лотарингии. Напрасно я смотрел на себя в зеркало, в фас, в полоборота, в профиль. Водил рукой по яйцам. Сжимал себе член до слез. Я ничего не мог с собой поделать. Я не мог справиться с этими нелепым налившимся кровью отростком. Мне было стыдно. Я злился на самого себя. Запихивал себе в штаны мокрые носовые платки. Регулярно в часы трапезы меня заставали в неприличном положении и, чтобы спуститься к столу, не оскорбляя семейного целомудрия, мне приходилось демонстрировать целый каскад гимнастических упражнений.
Как-то сон слегка облегчил мое затянувшееся перевозбуждение: шесть одетых только до пояса женщин окружили меня, когда я привязывал поддерживающие леса строящегося дома веревки к кольцу, к которому уже была привязана лошадь. Они окружили меня, согнувшись и обвив друг друга за талию руками так, чтобы левой рукой можно было щупать бутон соседки, а языками лизать задницы тех, что согнулись. Во сне все это двигалось и казалось очень естественным. Женщины терлись о меня своими вздувшимися вульвами. А я, одетый в тонкие полотняные подштанники, чувствовал, что достигаю сказочных размеров. Находившаяся там же старуха в шляпе, украшенной множеством магических медальонов, схватила ртом мой член, и я проснулся в страшном волнении. В таком положении любой выглядел бы глупо. К тому же, в простынях не очень-то удобно, волосы липнут к телу и пока еще соберешься пойти помыться. Передышка длилась всего двадцать четыре часа. Если, конечно, не считать гнусного ощущения напрасной траты времени, отвращения и многого другого. Через три дня снова сон. Купаясь в собственном дерьме, я решил отправиться в бордель.
Семейные шутки по поводу этого достопочтенного заведения помогли мне найти улицу, где оно находилось. Я легко обнаружил его в самом бедном рабочем квартале города, где городские власти не слишком следили за порядком, так как там жили не буржуа. Это был пустынный квартал. Мужчины и женщины днем работали на фабриках. На извилистой улице я заметил дом с двумя зарешеченными окнами и толстой обитой гвоздями дверью в конце длинной серой стены. Если бы не красный фонарь, можно было бы подумать, что это тюрьма. Время было раннее, после завтрака. Здоровенная баба, помощница хозяйки, извинилась, что может показать мне только трех девок: две были заняты, а две еще спали. Кожа девок излучала тошнотворный запах жратвы. Грустный месяц август, приправленный луком. Тоска. Самая жирная из трех кокетливо помахивала шарфом и напоминала огромный трясущийся кусок говна. Светловато-блевотного оттенка. Свои короткие ручки она забыла вымыть после завтрака. Должно быть, она любила пожрать. У второй был, что называется, мечтательный вид, так как ее огромная челюсть отвисала вниз. Крохотные башмачки на ее огромных ногах горничной были ей явно малы. Судя по всему, у нее были мозоли. Я выбрал третью. Если бы не обесцвеченные волосы из-за неумелого использования ею перекиси водорода. Небольшая головка, напоминающая помесь кошки с крысой, возвышалась над длинным, плохо ухоженным телом, у которого должен был быть привкус фосфата. Это не оставило меня равнодушным. В конце концов, вот уже два часа я был, как натянутая тетива. Несмотря на мой скелетообразный вид она назвала меня своим толстячком и сразу же очень мило обслюнявила мне рот. Остальные дамы снова возобновили свои занятия, одна вязала крючком, другая читала «Жизнь Гинемера» Анри Бордо. Мы поднялись наверх. Без сомнения, моя подружка очень скучала, читать она не любила, а вязать крючком не умела. Значит, я сделал правильный выбор. Она одновременно продемонстрировала мне китайские вазы оранжевого и золотого цвета с огромными искусственными ирисами и торчащей железной проволокой и свои груди, которые кокетливо сжала рукой, хотя они и без того были тесно прижаты друг к другу. Ее лоно красиво оттенялось волосиками, сохранившими свой естественный цвет. Правда, половые губы были немного длинноваты и отвисали. Для такого вытянутого тела ее плечи были излишне округлы, на шее же намечалась жирная, подчеркнутая кремом, складка. В постели она вдруг стала похожей на кучу макарон. Ей было скучно и хотелось пофантазировать. Она игриво показала мне свою задницу. Выгнулась. И, пританцовывая, сказала: ну как поросенок, ты меня хочешь, и т.д. Но все это было напрасно. Я уже ничего не замечал, даже пушечный выстрел не смог бы заставить опуститься мой член. Она заявила, что хочет приступить к делу и вцепилась в меня, когда я раздевался и стоял со спущенными штанами и в башмаках. Откинувшись на кровать, она, как животное, не имеющее ничего общего с ней самой, приблизила ко мне свой рот и мне бросился в глаза отдававший из-за дешевой пломбы голубизной зуб. Не успел ее язык коснуться члена, который она держала в своей руке, как сперма брызнула ей в глаза. Я почти ничего не чувствовал. Пожалуй, даже во сне все было поинтересней.
Она была немного смущена. Придется снова спускаться вниз, что-то говорить. Она мыла лицо в бидэ. Из соседней комнаты слышался шум. «А там неплохо развлекаются, » — сказал я просто так, чтобы прервать молчание. Моя подружка воспламенилась, как фейерверк, который взлетает вверх по первой же команде небес. Она снова сжала свои груди, ей следовало бы просто сшить их вместе, и знаком приказала мне следовать за собой. Она подвела меня к двери, заглянула в замочную скважину и пояснила: «Ее считают нимфоманкой. Она без этого не может жить и обслуживает троих за раз, взгляни». Действительно, на кровати можно было разглядеть лежащего на спине раздетого артиллериста, который теребел толстую сисястую девку со складками на боках и признаках базедовой болезни на шее. У нее были выпученные глаза и маленький, словно прорезанный бритвой ротик. Она вертелась как бешеная. Два другие клиента, солдафоны с низкими лбами и свиными глазками спокойно дрочили с тупым видом, сидя напротив на стульях в ожидании своей очереди. «Ты понимаешь, она так это любит, что каждый из них платит ей меньше установленной таксы, но так как они поднимаются сразу втроем, то все равно получается больше. Это им всем выгодно. Чего не скажешь о нас. Но она на хорошем счету у мадам. Она ведь еще сосет женщин, так что сам понимаешь. И надо сказать, что она готова заниматься этим без перерыва. Это даже неприятно. Когда у нее никого нет, она возбуждает себя сама. Это не женщина, а настоящий вулкан. Стулья, на которых она сидела, можно сразу узнать по пятнам на них. И даже за столом, мой мальчик. Я сначала сидела рядом с ней, но вынуждена была пересесть, у меня кусок в горле застревал.» В комнате один из сидящих военных начал проявлять признаки нетерпения. Его свиная рожа покрылась испариной, наподобие той, что явственно проступила на округлых ягодицах нимфоманки, у которой, как я успел заметить, были светло-голубые подвязки. Мужчина встал и гремя своими сапогами, подошел к кровати, где рычал его товарищ, который, видимо был так ошеломлен, что нравится шлюхе, что от этого забыл даже двигаться. Впрочем, она сучила ногами за двоих. Кроме этого я заметил, что на камине стояла такая же китайская ваза, но вместо ириса в ней были лунники, и еще нечто необычное, чего я раньше никогда не встречал: на стене висел календарь Галерей Нанси, показывающий месяц и число.
Нетерпеливый толкнул бьющуюся в конвульсиях женщину. «Да кончай же, я больше не могу», та начала сильнее двигать задом. Наконец он вмешался, и я увидел, как он с невероятной точностью и быстротой, граничащей с чудом и, вероятно, обусловленной прекрасной пиротехнической подготовкой в казармах С… прыгнул на перину, даже не задев женщину и не сдвинув ее с члена партнера, на котором та прочно сидела, одним махом ввел свой член между ягодиц бабищи и радостно заулыбалссся, возможно оттого, что тот проник в дырку сразу же, в то время как сам он немного соскользнул назад, и очутился сидящим у изножия кровати вытянув ноги вдоль первого оккупанта и упершись сапогами в его подмышки. Тот заорал и все трио закачалось, а это ангельское существо задергалось, сидя на двух членах, получая свою обычную порцию бодрящей гимнастики. Третий чурбан продолжал поддерживать себя в форме неторопливыми и беззаботными движениями рук. Нимфоманка позвала и его: «Кис-кис, миленький, залезай на кровать. Нет, передо мной. Да. Встань так, согни немного колени. Ты такой высокий.» И она принялась его сосать. Композиция была завершена. Я отвернулся. «Ну так что, — сказала девица, щекоча меня, — подобные штучки тебя не возбуждают?» По правде говоря, совсем нет. Я поднял свои штаны. Какая ужасная тоска всегда сопутствует осуществлению эротических мечтаний! Я вспомнил уличных собак, которые собираются в стаю для того, чтобы было удобнее спариться… А это собаки в сапогах, вот и все. К тому же, они всегда подчиняются одному и тому же архитектурному шаблону. Стоит им выстроить пирамиду из своих тел, как их воображение перестает работать. Все, как могут, стараются внести свой посильный вклад, и под конец многочисленные потные и испачканные спермой марионетки рассыпаются и валятся друг на друга. Как уродливый воздушный шар. Трудно поверить, что какое-то время подобные штучки были широко распространены в свете. Но тогда хоть это делалось гораздо артистичнее. Высшим шиком считалось умение построить собор. Говорят даже, что как-то вечером известные в обществе люди устроили у себя в частном особняке полное подобие Шартрского собора, не забыв при этом ни одной детали свода! Правда, для того, чтобы кончить в ожидании завершающего камня, им все время приходилось менять арки.
Моей подружке не хотелось спускаться в салон. Этому ребенку нравились комнаты, она находила их более респектабельными. А ей запрещали ожидать здесь клиентов, говоря, что в порядочных домах так не принято. «В сущности, я тебя понимаю, я тоже не люблю подобные фокусы, но если бы ты видел другую комнату!» Она вдруг замолчала. «Нет, нет, я не могу тебе ее показать. Такой обходительный мужчина (он выбрал меня целых два раза), а потом, его репутация!» Я перестал одеваться, последние слова меня заинтересовали. Она заставила меня поклясться, что я только проездом в С…, и лицо этой персоны мне неизвестно, потом потащила меня ко второй двери налево, где за умело отогнутыми обоями скрытый глазок служил для удовлетворения естественного любопытства, в то время как посетитель, полагаясь на надежность гобеленов, абсолютно ни о чем не догадывался. Сперва я заметил женщину, показавшуюся мне бесспорно самой красивой в этом не слишком приличном заведении. Это была смуглянка с очень маленькими грудками и длинными, как сигары, сосками. У нее были очень широкие бедра и совершенно круглые ягодицы. Черные чулки красиво облегали ее тонкие и нервные ноги. Она играла маленькими красными тапочками, без конца снимая и надевая их, и смотрела, как раздевается ее клиент. Это был приземистый, начинающий лысеть мужчина. Вот он обернулся. На его лице веером росла светлая борода. Господи, да это же мэр города, однажды вечером я видел его у моих родителей. «Очень порядочный человек, — объяснила мне моя напарница, — не может же он все время ездить в Париж, ты же понимаешь. Ну он и приходит сюда, но это строго конфиденциально. Он не может себе позволить содержать женщину. Кроме того, что это очень дорого, за него бы больше не голосовали. Да, его положению не позавидуешь.» Тем временем мэр, как знамя, раскладывал на кровати сложенную пеленку. Я удивился. «Ты сам увидишь. У него есть маленькая странность. Когда он кончает, он испражняется, о, нет, не много, самую малость. Это происходит непроизвольно. Всего лишь маленькая жиденькая какашечка… Совсем как у ребеночка. Ты увидишь.» Ну нет, я ничего не увижу, я встал и покинул наблюдательный пункт. Наверху мне недвусмысленно намекнули, что мной недовольны, и я это отлично понял. Деньги скользнули в башмак, а я на улицу.
Эта небольшая экскурсия ничего не изменила: я спал спокойно всего одну ночь. На следующий день все началось сначала. Но вместе с тем одна мысль о том, чтобы вернуться в притон, вызывала у меня непреодолимое отвращение. К тому же, у меня не было ни малейшего желания заниматься эксгибиционизмом перед соседями, наблюдающими за мной через замочные скважины или потайные окошечки. Сны возобновились. Это меня отнюдь не забавляло. Несколько семейных сцен окончательно испортили мне настроение. Произошла небольшая размолвка из-за пропавшей вилки, в которой я занял сторону горничной. Увы, горничная была старая и уродливая, и от нее плохо пахло.
Стремление к выражению своих мыслей вполне естественно. Каждый самовыражается по-своему. Лично я не могу думать без того, чтобы не писать, можно сказать, что письмо — это мой метод думать. В то время, когда я не пишу, у меня мелькают лишь обрывки мыслей, что-то вроде карикатур на меня самого, только отдаленно напоминающие о том, чем я на самом деле являюсь. Другие находят для себя совсем иные способы. И поэтому я всегда завидовал тем, для кого способом самовыражения является секс. Чудесный язык. Но совершенно мне чуждый.
Что бы я ни думал об ограниченности эротического опыта, о неизбежном и однообразном повторении элементарного акта, который с успехом можно было бы заменить любым другим примитивным действием, я испытываю самое глубокое уважение к тем, кому эта ограниченность кажется самой свободой. Они являются подлинными хозяевами физического мира, превосходными интерпретаторами метафизического смысла классических произведений, в которых для меня, рядового зрителя, находят источник всей существующей морали. Пусть тот, у кого во время блуда никогда не возникала мысль о смерти, опровергнет меня. Все, что несчастным личностям, вроде меня, представляется безнадежно жалким, имеет для других, и я это прекрасно осознаю, чудесную метафорическую ценность, подобную той, которую для меня имеют лишь слова. Можно даже сказать, что слова облегчают мне мои страдания. Возможно, я просто не восприимчив к этой необычной и непостижимой поэзии. И я ее постигаю. В этом причина бесцветности моих ощущений, и хуже того — моей жизни. Эротизм, это слово часто навевало на меня самые безотрадные мысли. Может быть, я кажусь гордецом. Неважно. В тот период, о котором я рассказываю, я подолгу в одиночестве просиживал в своей комнате, глядя на унылые обои в цветочек и размышляя об эротизме и его значимости для меня. Эротическое влечение — это худшее из зеркал. То, как отражается в нем твоя сущность, заставляет содрогнуться. Уж лучше бы я действительно был каким-нибудь самым обычным маньяком, как бы мне этого хотелось. Это желание красноречиво свидетельствует о моем глубоком стремлении к истине. Я не особенно люблю думать о сексуальных похождениях, в то же время мне трудно поверить, что все мои приключения уже в прошлом. Газеты периодически преподносят нам всевозможные достаточно обрывочные сообщения то о самых обычных преступлениях на почве ревности, то о поразительных эксцессах и неподражаемых отклонениях, которые погружают меня в бездны сожаления и мечты. Тут-то я и могу оценить свои возможности и отнюдь не испытываю чувства гордости собой. Во мне нет ничего сверхъестественного, этот факт всегда вызывал у меня жгучее сожаление. Волшебство наслаждения, может быть, является самым необычным из всех, если учесть все то чудесно материальное, что оно содержит. И какое прекрасное завершение: сперма, подобная снегам на вершинах.
Мне нравится… на этих словах я спотыкаюсь. Мне не нравится, что все время повторяется одно и то же. Мне не хотелось бы впутывать ту, которая вряд ли думает об этом в настоящий момент и которая была для меня, как я теперь понимаю, чем-то гораздо большим, чем мне хотелось бы думать. Это к Вам я обращаюсь, моя дорогая, моя дражайшая подруга, к Вам, чье имя не может быть здесь упомянуто, и которая, оказавшись среди подобных размышлений, была бы столь поражена, что я осмеливаюсь лишь намекнуть на Ваше существование и странные отношения, которые, вероятно, каким-то образом навсегда связали Вас с некой частью моего существа. Я постараюсь, чтобы все это попалось Вам на глаза. Я не принесу Вам этого сам, хотя так было бы проще для меня. Нет, я знаю, как лучше сделать. Кто-нибудь другой случайно покажет Вам это, и Вы прочтете. Вы прочтете это в одиночестве. И сперва, возможно, даже подумаете, что я обращаюсь к другой. В самом деле, но к кому? Узнаете ли Вы тон, который я утратил с тех пор, как перестал общаться с Вами, с тех пор, как перестал с Вами говорить. Не узнать саму себя, этого вполне можно от Вас ожидать. А между тем, если я напомню Вам, какой ценой мне пришлось заплатить за то особое отчуждение, которое я получил вместо обычной в подобных случаях, хотя бы небольшой благосклонности, если я напомню Вам, как жаждал я тогда этой благосклонности, гораздо сильнее, чем все то, чего я ожидал от Вас потом, а от Вас я мог ждать потом чего угодно, в том числе самого ужасного, я напомню Вам место, где это произошло, хотя для всех это не имело никакого значения, шум, соседи, пошлый оркестр, золото колонн, нетронутые стаканы перед нами и мое терпеливое ожидание, как тогда Вы осмелитесь, хотя я по-прежнему не решаюсь произнести Ваше имя, оно ускользает от меня, как ветер, который ложится к Вашим ногам, как тогда Вы осмелитесь не узнать себя? Это из-за Вас я погряз в этих бесконечных материальных хлопотах. Вы касались своими прохладными руками моего лба. Даже оставаясь один, я ощущал Ваше присутствие. Вы возвращались. Странно, но мне казалось, что Вы вдруг умерли; когда приносили почту, меня одолевали ужасные предчувствия, которые не позволяли мне спуститься вниз к Вашему призрачному образу. Понимая, что слова всегда лгут, я не пытался заставить Вас верить рассказам о Вашем образе, и тому, что я Вас видел. Нет. Если бы я Вас видел! Иногда я отчаянно пытался разглядеть Вас, закрывая, а потом, наоборот, широко раскрывая глаза, в темноте комнаты, но внезапно Вы там появились. Ваша походка. Ваше платье. Казалось, что Вы выбирали для своего появления именно тот момент, когда я писал, сидя за своим узким столом лицом к стене. А комната со всеми ее укромными уголками и голубоватой поверхностью ковра полностью принадлежала Вам. Я знал, что вы бесшумно ходите взад-вперед за моей спиной. Иногда Вы приближались ко мне. Мое сердце начинало усиленно биться. Я знал, что, стоит мне обернуться, как Вы исчезнете. Я не оборачивался. Я продолжал писать. Постепенно Вы становились смелее. Я ощущал Ваше дыхание. И не оборачивался.
Страные безмолвные свидания! Нам даже не нужно было их назначать. Мне бы хотелось уверить Вас, что я бы не смог этого сделать. Если бы тогда меня попросили уехать из этой проклятой провинциальной дыры… я должен признаться, что я бы уехал, я бы покинул Вас. Но никому, и конечно же не Вам, не Вам понять, чего бы мне это стоило. Бесконечными полутемными вечерами Вы снова являлись, но уже изменившись. Вы больше не были той дневной подругой, той ускользающей женщиной, которая молча возвращает потревоженные предметы на свое привычное место. Вы стали более грустной, более отдаленной. Никогда еще Вы не приближались ко мне в сумерках. А я и не мечтал о том, чтобы попросить Вас об этом.
Однако однажды вечером я устал сильнее, чем обычно, и Вы не пришли. Как смущает меня необходимость так грубо, в обычных терминах, обозначающих перемещения людей, описывать все, происходящее между нами. Приходить… Конечно, имеется в виду именно это. Я знаю, что Вы не приходили, что Вы никогда не приходили. И, тем не менее, иногда Вы здесь были, а иногда Вас здесь не было. Приходить? Постепенно удается очистить смысл самых банальных слов. Внезапно Ваш бесплотный образ слегка замутняется так, как если бы его вдруг окутало какой-то пеленой. Все это происходит из-за необычного эффекта, производимого Вашими глазами, которые запечатлелись не в моей памяти, но в комнате, реальной комнате с ее стульями, кроватью, стенами, потолком и моим чемоданом. Ваши глаза безмерны. Я уже сейчас не помню, хотя иногда по-прежнему встречаю Вас, какого цвета Ваши глаза. Да, я забыл Ваши глаза до такой степени, что, даже когда я снова их вижу, я остаюсь абсолютно равнодушным. Равнодушным… о нет, эти слова выражают уже не любовь, а смерть любви. Ваши глаза этим вечером бледно-голубоватого цвета, и в одном из них отражалась комната, в которой меня не было.
Итак, я писал. Казалось, на меня давит какой-то адский камень. Я знал, что это могла быть только мысль, а я уже говорил, что писать — это мой единственный способ думать. Я писал. Я всегда завидовал этим свободным людям, эротоманам. Они никогда не пишут. Я же испытывал что-то вроде одержимости, и лишь время могло по-настоящему ее рассеять. Нищета и ужасное страдание. Я мог рассчитывать получить небольшую сумму только к концу лета. Надо было как-то продержаться до этого времени, физически и интеллектуально. И я писал. Я смотрел на то, что у меня получалось, как путешественник из окна вагона равнодушно смотрит на бесконечный унылый пейзаж, в котором все повторяется, меняется, и в конце концов сливается в одну развернутую складную открытку. Он уверен, что это один из самых тоскливых пейзажей на свете. Не сомневался в этом и я, а, тем не менее, не отводил глаз от бумаги, на которой разворачивалась воображаемая реальность. Сильное волнение снова вернуло меня к постепенно обретающим определенные очертания образам. Сквозь медленно рассеивающийся туман моим навязчивым идеям все явственней противостояло лицо, лицо нереальное, и, может быть, не слишком прекрасное, но черпавшее в этом противостоянии определенную магическую силу. Частички вселенной группировались вокруг него. Нелепое нагромождение. Я перенесся в эпоху, где впервые воздвиг для себя подобные декорации, поместив туда несколько призраков, большая часть из которых так и не обрела плоти. Очутившись там, я нисколько не изменился. То же одиночество, тоска, неопределенность, тяжелые испытания судьбы и еще многое, такое, от чего мне хотелось бы избавиться. Я уже ощущал бесстыдное воздействие плоти, даже в тех своих занятиях, которые всегда считал наиболее возвышенными. И все же мне хотелось каким-то образом опереться на эту глупую и навязчивую галлюцинацию в своих воображаемых интригах, ибо я чувствовал отвращение ко всему этому дерьму, убожеству чувств и гнусной пакостной жизни. Неважно, что с тех пор прошло уже два или три года. Мне уже успело надоесть все, что вдохновляло меня еще неделю назад. Деревня. Деревня, несмотря на ранние в этом году солнечные дни, была слишком слабым утешением. Созерцание круговорота воды в холодной реке, купание, долгое лежание на спине в высокой траве в ожидании вечера, первые мухи, наконец, вечер с его фиолетовым ароматом. Голова не может постоянно оставаться пустой. Вдоль протянувшихся по небольшим безликим долинам дорог, по которым я ходил, попадались кабачки, где можно было выпить. Официантки в них не слишком общительны. А олеографические календари утомляют. Поэтому на скупо отмеренном кусочке бумаги в клеточку я предавался игре своего воображения. Меня увлекали собственные фразы. Они были достаточно большие, чтобы можно было спрятать в их складках сразу несколько имен, которые поначалу ничего не будили в сознании, но потом, вернувшись уже в более отчетливом виде, заставляли проснуться. Именно тогда у извозчика, которого все звали Добряк Даниэль, я познакомился с Иреной. Она возникла в раковине времени совершенно внезапно. Непроизвольная завязка могла бы иметь продолжение. Но эта женщина разрушала все. Она надолго завладела моими мыслями.
В С… , перечитывая все, что было написано под влиянием этого события, я снова начинал об этом думать и снова оказывался во власти, но на сей раз уже нового, призрака. И этот последний, пройдя через годы забвения, обрел свои особые очертания. Он был именно тем, что мне меньше всего хотелось бы видеть, чьего взгляда я избегал вечерами, стараясь не замечать опасного сходства в очертаниях тех силуэтов, которые попадались мне навстречу, когда я прогуливался по городу. Он был далек от идеала. Почему же я не изменил его?
Кухонные рабочие переглянулись. Сильный ветер с темного и бездонного моря, с моря, переполненного обнаженными утопленниками, сильный ветер с резким шумом, напоминающим шум рифов в марселях, надул перкалевую занавеску. Дорога враждебно обращала к нам свое гневное лицо пыли. Таинственная ночь неожиданно сковала всю страну от соленых холмов до топи болот, где блуждает, как известно, метановый огонь, который, — и я в этом убежден — является неприкаянной душой погребенных в болотах, или, чтобы не раздражать общественное мнение и тех, кто считает, что навеки стряхнул с себя предрассудки, пусть это будет просто необъяснимое самовозгорание метана в торфяниках, и здесь нет ничего такого, от чего следовало бы приходить в волнение, даже ночью, даже таинственной ночью, которая внезапно к четырем часам охватывает все — от голубых рощиц до сырых ущелий, а в это время какой-то человек, возможно, извозчик, возвращается с вокзала под первыми крупными каплями дождя через заросли дрожащих трав, сопровождаемый паническим страхом насекомых. Занавеска, ты вздымаешься, как грудь, при вздохе. Это так похоже, так похоже на приближение любви. Когда надвигающаяся гроза в темном наряде туч играет своими могучими борцовскими плечами, когда она нависает над скудной местностью, где болезнь таится в каждом доме, который служанки заливают водой, сбросив с себя сабо и подталкивая босыми ногами щетку на конце швабры, когда под мышками у всех проступает пот, а праздные женщины оставляют работу и предаются расслабленному созерцанию (напевая для вида и неизвестно зачем распахивая рубашку на мокрой груди), вооруженных вилами или сапками деревенских мальчишек, наблюдая за тяжелыми и тусклыми, как бильярдные шары, глазами и стесненными телами этих юных мужчин, которые, казалось, под воздействием испарений наэлектризованной весны собираются сбросить с себя одежду, а надувшаяся изо всех сил перкалевая занавеска, вобрав в себя всю мощь атмосферы, снова опадает с хлопаньем и звонким щелчком. Считается, что при приближении урагана следует закрывать двери и окна. Надо стараться избегать сквозняков: они притягивают молнию, которая поражает смертельным разрядом согрешивших девушек, рассекая их свинцовым огнем, подобным горящему взгляду, каким ты, Ирена, прожигаешь слуг и плохо выбритых кучеров, преследуемых навязчивыми воспоминаниями о городских женщинах, которые, стоя за ставнями в одних сорочках, улыбаются, слушая гнусавые звуки граммофона. Ирена, нужно стараться избегать прикосновения разгоряченных губ к оконному стеклу, когда через двор проходят эти простолюдины, которые будят в тебе желание. Возможно, подобие поцелуя сильнее сквозняков притягивает к твоим приоткрытым губам огненный язык грозы. Ирена приглаживает волосы и представляет себе, как ее поражает молния. Она рассеянно слушает, как в зале со смехом говорят о незнакомце, который в непогоду направился к северу, где сплошные непроходимые трясины. От влажного пола пахнет мылом и смолой. Скотину загоняют в хлев, над дорогами витает шерсть от прошедших стад. Жеребцы в конюшнях бешено требуют ласки, в которой им отказали. Шумные собаки толкутся вокруг навеса у дверей. Разбитый параличом старик знаками показывает, что он хочет что-то сказать. Его отталкивают. Ему хочется что-то сказать, что-то сказать,ему страшно хочется что-то сказать. Но всех больше занимают козы, чем он. Он всем надоел, Он не говорит уже много лет. Ему хочется поговорить. У него течет слюна. Он уставился на покрасневшую Ирену. Напевая, входит сын фермера, Гастон, который проходит на востоке военную службу. Все поворачиваются к открытому шкафу, где уложено белье. К ногам путешественников прилипла желтая земля с холмов. Старик показывает пальцем на Ирену. Что нужно этому старому идиоту? Что еще за глупости у него в голове? Все парни направляются через гостиную в кухню. Пьер, Жозеф, Прюдан… от них пахнет мокрыми волосами, они шутят, толкаются и хлопают друг друга по животам. Гастон хватает Прюдана за яйца. Они сцепляются. Поскальзываются на обмылке хозяйственного мыла, слышна ругань. Да, что бы вы сами сказали, оказавшись в болоте. Божья Девка, точнее Пресвятая Ебародица. Гастон, не слишком смейтесь над этими богохульствами. Сифилис уже близок, еще пятнадцать дней и он даст о себе знать, он притаился в крови и готовится нарисовать причудливые красные цветы на его коже с бледными крапинками язв на изгибах его нервов. Если только его не спасет чудо. Он уже (и самым распространенным в Нанси способом) подхватил болезнь, которая однажды сделает его похожим на старика, хрипящего в своем кресле, однако пока он пехотинец, вопреки всему ждущий исцеления в неуютной грязной комнате от красных пастилок перманганата, подогреваемых на маленькой плитке. Суровый взгляд его матери, проходящей с грудой тарелок в руках, выводит отпускника из себя. Он плюет на землю и кричит: «Хуятерь Божья!» Имя Создателя заглушается раскатом грома и взрывом смеха святотатцев. Дождь с силой барабанит по стеклам. В глазах деда Ирена замечает новую вспышку и затыкает уши. Чего она боится? Проклятья или наказания небес? Она опирается о ларь, линии узоров которого продолжают линии ее тела.
«Я потерял счет годам. Первое время я еще следил за рукой, отрывавшей листки календаря. Понедельник или вторник — я перестал что-либо понимать в этих человеческих условностях. Все дни казались мне такими похожими. Само же число было для моих слабеющих глаз чем-то вроде знакомой мелодии. Это растущее на стене число никогда не имело того смысла, который я ему придавал. Каждый месяц я смутно надеялся, что, в конце концов, я снова научусь считать, хотя бы на пальцах. И что же произошло потом? Может быть, оттого, что мое кресло немного сдвинулось, границы моего зрения совсем сузились? Я больше не видел календаря, дни и ночи смешались. Я мог различать только времена года и окончательно потерял счет годам.
Мне было двадцать пять лет, когда я оказался навсегда прикованным к креслу. Ребенок моей дочери уже достиг половой зрелости. Значит, сейчас мне уже за шестьдесят, а этот пыл все не ослабевает, он тлеет во мне вопреки моей неподвижности. В начале, когда я еще надеялся на будущее выздоровление, хотя мне и приходилось раньше самому видеть слабоумных и разбитых параличом, я совершал нечеловеческие усилия, чтобы, хотя бы взглядом, дать понять моей жене, когда она меня касалась, что я все еще мужчина. Она говорила, с надеждой положив руку мне на плечо: «Он волнуется, он очень волнуется» и только я один с беспощадной ясностью осознавал, что, в конце концов, умру от кровоизлияния. Стараясь успокоить меня и давая мне советы, она часами оставалась рядом, совсем рядом со мной, не замечая, — я никогда не мог до конца этого понять, — не замечая в моих расширенных от напряжения зрачках кровавого смешения ненависти и желания. В полном молчании и неподвижности я пытался выразить вращением своих глаз возбуждение. Из них изливался целый поток образов, кружащихся между миром и мною. Тела, тела, тела людей вокруг меня, мои скованные руки срывали с вас одежды, одежды, облегавшие ваши проклятые формы, срывали вместе с вашей кожей, с кожей, вводящей в искушение, оставляя на ее белизне и роговых оболочках моих глаз разящие красные следы самца, умершего без покаяния гордой и возвышенной смертью, которой безмолвно жаждала вся моя потрясенная плоть, неспособная смириться с отсутствием наслаждений, не доступных телу самца, чьи руки лишены возможности что-либо делать, в то время как между застывших неподвижно ног смехотворно торчит огромный источник небесной благодати, который по-прежнему можно сосать, дрочить, запихивать в дырку, этот готовый проткнуть стены член. В одно прекрасное утро моя сердобольная супруга решила еще читать, несмотря на то, что мои глаза ясно говорили о диких мучительных желаниях, одолевавших меня, молитвы святых мучеников. Иногда она сажала к моим ногам мою дочь и ко всем прочим проклятым страстям, терзавшим меня, присоединялся инцест. «Помни всегда своего отца, моя Виктория, и то, как терпеливо я сносила это несчастье, — шептала добрая мать, — как я ухаживала за ним, как я его любила. Больные уже одной ногой в раю. Они причастны вечному покою, где в небесной лазури царит Всеблагой Господь. Грешные мысли постепенно покидают их. Они не умирают внезапно, сразу же отлетая к ангелам: благодать нисходит на них, как морской прилив. Виктория, моя дорогая, вглядись повнимательней в глаза своего отца и ты заметишь в них отдаленное сияние голубых небес.» И Виктория поднимала ко мне свои глаза, смущенные глаза невинного ребенка. Я читал в них рождающуюся тайну, подобную тайне огромного леса, в котором под листвой дышат первые фиалки. Потом с незамутненных век моего ребенка мои глаза соскальзывали на ее перламутровую кожу, при этом я на мгновение задерживал взгляд на губах. Пятно на них свидетельствовало о выпитых тайком чернилах. Из-под рубашки выглядывала нежная впадинка под узким затылком. Две ловкие ручки иногда случайно касались моих колен.
Нет, я никак не мог понять, замечает ли что-нибудь моя жена. Иногда между нами пробегало, и я мог бы в этом поклясться, нечто вроде дрожи, которая не была только воспоминанием. Но это сразу же проходило. Может быть, мне казалось? И я приписывал ей собственную лихорадку. Она была само олицетворенное достоинство, всегда приходя одетой во все черное, потому что это наилучшим образом соответствовало ее положению. Ах, как меня бесил этот преждевременный траур! Мне хотелось одеть ее как акробатку, раздеть догола, накрасить, оставив на ней лишь черные чулки. А она читала свою молитву и изредка целовала меня в лоб. Чудовище! Но иногда, когда она приводила ко мне малышку, мне казалось, что я ловлю на ее лице что-то вроде молчаливого соучастия, и тогда я не знал, что и думать. Хотя отцовское чувство тоже иногда просыпалось во мне и я силился улыбнуться Виктории. Да нет, все это был бред: моя жена говорила таким знакомым мне холодным голосом. Она рассказывала мне новости. Привычная беспощадная жалость. Однажды в полдень она пришла ко мне, чтобы дать воды. Августовская духота наполняла комнату. Неделями не было ни малейшего сквозняка. Во дворе ощипывали цыпленка. На меня внезапно обрушился настоящий шквал. Незримый ураган между наших сблизившихся лиц. Я с болью ощутил зрелую, готовую уже пойти на убыль, красоту своей недоступной супруги. Чудесная зернистая слегка влажная кожа, пряный запах, ужасная жара. Она не дотронулась до меня, но на мгновение застыла. Правильно ли я понял? Кажется, уходя, она закрыла глаза и вся напряглась, не проронив ни слова. Мне показалось. Показалось. Она хотела это скрыть, отвернувшись от меня. Наверное, это была просто внезапная грусть, грусть моя или ее. Скорее, ее.
А тем временем Виктория подрастала. Ее глаза старались избегать моих. Украдкой она бегала за мальчиками. Сперва она от меня не пряталась. В моем присутствии она листала иллюстрированные книжки, и я видел, как добрую четверть часа она рассматривала чем-то портрет с усиками. Однажды она сидела здесь, напротив окна. Она шила, и ее отвлекло какое-то происшествие на улице. Она сидела, застыв с иголкой в руке и приоткрыв рот. Я видел ее пухлую руку. Ее грудь вздрагивала в дневном свете. Я чувствовал, как под шотландским корсажем эта едва сформировавшаяся невинная детская грудь все твердеет и твердеет. Ее шея напряглась, а губы дрожали. Потом рука снова яростно взялась за дело. Виктория даже не подняла головы, когда со двора вошел слуга с толстым наивным лицом, и, застегивая ширинку, прошел через гостиную. Когда за моей спиной хлопнула дверь кухни, глаза Виктории оторвались от шитья и медленно уставились в глубь комнаты, но по дороге наткнулись на мои. С того самого дня моя дочь меня возненавидела.
«Эти плохо угасшие желания, разгоравшиеся от любого пустяка, оживляли не только Викторию и ее мать. Были еще и служанки, одно присутствие которых, подобно вспахивающему землю плугу, переворачивало во мне все. Только новенькие побаивались меня. Привыкнув, они переставали обращать на меня внимание. Когда я был помоложе, многие пугались, замечая во мне эту застывшую силу. Они старались не сталкиваться со мной взглядом. Или пугливо уходили, хихикая. Один, один раз… Только одна обратила внимание на то, что со мной происходит. Это была высокая медлительная девица с большими неторопливыми руками. Прачка. Когда в зале никого не было, она молча вставала передо мной. С мрачным видом. И стояла так довольно долго. Потом она расставляла ноги. И так она делала по два-три раза в день. Она окидывала комнату быстрым взглядом и поправляла рукой свою прическу. За те шесть месяцев, что она провела на ферме, она не коснулась даже моего рукава. Однажды утром во время жатвы, когда все были в поле, она, как обычно, зашла и встала передо мной. Но на сей раз что-то ее занимало. Она замотала головой, как бы говоря «нет» и отгоняя тайное предположение. Внезапно она задрала юбку и показала мне лобок. Красивый светло-шатеновый пухленький передок, на ней были серые хлопчатобумажные чулки на веревочках. Юбка упала, и со словами: «Мне нужно посмотреть, куда я поставила молоко», она вышла из комнаты. Через три дня она покинула ферму, ей пришло какое-то письмо.
Каждую весну я наблюдал за горячкой, которая охватывала деревенскую молодежь. Девочки и мальчики совсем меня не стеснялись. Я знал все их связи, все их измены, их пороки. Из своего угла я наблюдал, как сходятся и расходятся пары, а иногда целые трио, огромные семьи. Они не стеснялись обниматься в моем присутствии: «Старик. Он все равно ничего не расскажет, он не может ничего сказать», а находились даже такие, кому мое присутствие нравилось. Нравилось. Во всяком случае, несколько лет подряд отец Гастона, фермер, забавляясь с разными женщинами, делал это так, чтобы я мог его видеть. Он высовывался в окно, как будто бы для того, чтобы освежиться. Иногда он курил трубку, а женщина, присев на корточки, обрабатывала его, глядя на меня. Или же она не могла меня видеть. Он следил за двором и часто кричал на кого-нибудь. Женщина пугалась. А он пинал ее коленом.
Мне было приятно видеть вместе мужчин и женщин. Мне казалось, что их пример поможет мне вылечиться. Они меня ужасно возбуждали. В конце концов, случилось так, что подобные зрелища увлекали меня гораздо больше, чем я мог себе представить. Я всегда испытывал страшное смущение. Но даже это смущение начинало нравиться мне все больше. Мне все больше нравилось и то, что в первые годы моей неподвижности больше всего заставляло меня стыдиться. Я следил за мужчинами, тайно желая, чтобы им хотелось служанок или мою дочь. Я сам в мыслях раздевал их, чтобы представить себе эффект, который должны были произвести на них замеченные ненароком обнаженное плечо или грудь.
Зимой моя заживо погребенная своим трауром жена умерла. Меня подвезли к трупу. Ее губы были плотно сжаты. Она унесла свою тайну с собой. А мне хотелось поведать всем о моей, я мучительно напряг свое непослушное лицо. Люди толкали друг друга локтями. «Да, это печально, бедный старик. Она была так добра к нему.» Жизнь немного упростилась. Виктория не считала себя обязанной продолжать кривляния своей матери. Она даже смеялась, когда работники подшучивали надо мной. А я думал: вместо того, чтобы заниматься мною, лучше займитесь ею, моей дочерью. В мае, а может быть, в апреле, фермер снова вернулся к своему окну, и у его ног была Виктория. Она думала, что для меня это страшный удар. И зло смеялась. А я внимательно рассматривал ее: я снова видел когда-то такие невинные глаза и маленькое тело, которое теперь развилось. Сцена повторилась несколько раз. Я был взволнован и испытывал необыкновенное удовольствие, которое Виктория принимала за ярость. Однажды она встала и прошла совсем близко от меня, продемонстрировав мне трещины на своих губах.
Вскоре после того, как все здесь стало принадлежать ей, моя дочь Виктория вышла замуж. У нее были любовники, родились дети. Ее ненависть ко мне не ослабевала. Эта ненависть тоже приносила мне специфическое удовлетворение, о чем она абсолютно не подозревала. Мне нравилось это, Виктория, я никого так не любил в мире, кроме тебя, честное слово. Она показывалась мне в объятиях всех своих мужчин, я уверен, что всех. Я видел ее даже со служанками. Она стала настоящей женщиной. Она немного поблекла. Ей уже скоро сорок. И она моя дочь. В глубине взглядов, которыми мы обмениваемся, таится так много, известного только нам двоим. Мне нравится ее упорная ненависть, которую я чувствую на себе каждый день. Мне нравится презрение, которое сквозит в каждом ее обращенном ко мне слове. Она укрощает всех мужчин. Тот фермер всегда к ее услугам. Он тоже женился. Он предан ей, как собака. Эта женщина настоящая госпожа. Ах, если бы ее мать была такой же.
Вот уже не менее сорока лет, я плаваю среди жалящих меня страстей, не разрушая плотины, отделяющей меня от вселенной… Грандиозное безразличное сочувствие витает над креслами немощных. Праздные зеваки, вам все равно никогда этого не понять. Я не согласился бы лишиться своего положения за все золото мира. Отбросив все ребяческие желания мужчин, я могу посвятить все свое время чистому, не замутненному ничем сладострастию. Мои чувства обострились до бесконечности и, в конце концов, я обрел в этой чистоте истинное удовольствие. Старость почти не тронула моего тела. Хотя мои волосы поседели, я почти не проводил своих дней в постели с женщиной, которая каждую ночь агонизирует в своей морщинистой коже. За моим видимым рабством скрывается глубокая внутренняя свобода. В то время, когда я мог ходить и говорить, я целиком зависел от других. Даже мысли казались мне преступными. Я должен был всячески ограничивать себя. Я боялся стоящих передо мной вопросов. Великая обделенность таитт в себе большие преимущества. Сегодня уже нет такого несчастья, которое могло бы еще на меня обрушиться, или события, которое могло бы меня разочаровать. Я научился наслаждаться сам и сопереживать наслаждению другого. Я не думаю о смерти. Не скучаю. Совсем нетрудно избавиться от скуки, если не с кем говорить, а я больше не могу говорить. Время от времени мне страстно хочется быть таким же, как все остальные люди. Эти кратковременные кризисы помогают мне еще острее ощутить свое счастье. Может ли со мной случиться что-нибудь еще худшее? Пожар на ферме? Но все мое тело практически нечувствительно к физическим страданиям, Он был бы еще одним увлекательным представлением, ии я даже немного желаю его, этого пожара, хотя бы для того, чтобы увидеть животный страх всех этих мужчин и женщин, Виктории, ее дочери Ирены: умереть, созерцая картину этих опьяняющих откровений, среди этой растрепанной, охваченной паникой, полуголой толпы. Если бы вы, молодые люди, насмехающиеся над калеками, только знали, какое приглушенное наслаждение, какое содрогание в глубине своей плоти я испытываю, слушая ваши насмешки. Ах, смейтесь же, смейтесь, прекрасные двадцатилетние животные. Я признателен вам за то удовольствие, которое я испытываю, когда слышу вас. Так смейтесь же надо мной еще и еще, я прошу вас, смейтесь до икоты, взахлеб, до удушья. Прямо здесь, стоя передо мной. Как напрягается их кожа. Они тоже, наверное, думают, что это меня злит. Они начинают ненавидеть меня от всего сердца. Грязный старик, думают они, он все время пускает слюни и мешает нам радоваться жизни. Они осыпают меня бранью: ведь они ничем не рискуют, ибо знают, что Виктория, мадам Виктория, не будет возражать. Самые наглые даже толкают меня. К несчастью, они не осмеливаются от души поиздеваться надо мной. Правда, был такой момент, когда я думал, что они меня побьют. Но нет. По крайней мере, не сегодня. Когда-то я был мужчиной более привлекательным, чем вы, гораздо сильнее и умнее вас. Образованным мужчиной, грязные скоты. Меня любили. Вы бы сами тогда искали знакомства со мной. Я жил в городе. Меня занимали сложные проблемы. Я мог бы рассказать вам об этом, если бы мог говорить. Но я благодарен сифилису за то, что не могу говорить. И вы никогда не узнаете, кто просидел здесь целых сорок лет. Ах, почему вы не отвесите мне оплеуху, какие глупые предрассудки или трусость удерживают вас? Моя жизнь бесподобна. Я чувствую, как из меня исходит всепоглощающая торжествующая радость: так бейте же меня, я вам говорю, может быть я даже более велик и значителен, чем Александр или Юлий Цезарь!»
Рыбки рыбки это я вас зову: видите мои красивые ловкие руки в воде. Рыбки в вас есть что-то мифическое. Ваши любовные отношения совершенны, а ваши чувства непредсказуемы. Вы даже не приблизившись к своим самкам чувствуете возбуждение от одной мысли о семени как нит тянущемся за вами от мысли о таинственном соитии, которое совершается в тени переливающихся вод и вызывает чью-то безмолвную экзальтацию. Рыбки, вы не обмениваетесь любовными посланиями, а выражаете свои чувства собственным телом. Нежные самцы и самки, рыбки, я преклоняюсь перед вашим неподражаемым способом чувствовать. Если бы я только мог хоть где-нибудь избавиться от своих чувств. Скольких преступлений можно было бы избежать, скольких драм! Ichtys. Иисус Христос Сын Божий, как я вам завидую. Бесподобные божественные глубины, я чувствую себя ничтожным и схожу с ума когда хоть на мгновение вспоминаю о вашем спонтанном разуме, в котором зарождается прекрасное морское растение страсти, охватывая своими ветвями ваши хрупкие тела, в то время как вода вибрирует вокруг вашего одиночества и слышится пение волн у берегов. Рыбки, рыбки, стремительные подобия чистого наслаждения, незамутненные символы непроизвольных поллюций, я люблю вас, и я зову вас, рыбки, напоминающие монгольфьеры. Сбросьте вглубь опасных впадин балласт страстей, продемонстрируйте свое интеллектуальное превосходство.
Рыбки рыбки рыбки рыбки.
Но человек тоже иногда способен любить.
В отношениях влюбленной пары всегда существует отдельная сфера, на которой концентрируется особое внимание и которая оказывает неизбежное воздействие на развитие личности. Именно здесь, в пределах этой сферы просматривается весь спектр света желания, от раскаленно- красного до прохладно-фиолетового, и чудесным образом незаметно зарождается чувственность. Тогда… тогда… но не будем предвосхищать события.
А теперь, дорогой читатель, я введу тебя — именно тебя, того, кому всю последнюю неделю пришлось наблюдать с помощью чего-то вроде перископа довольно продолжительную сцену, которую из глубины погреба, где тебя заперли, ты принял чуть ли не за подлинную экзальтацию человеческой души; но ты ошибся: это всего лишь бесцветное грубое существо, которое, помня о том, что может сделать с человеком разврат и недостаточное питание, заранее приукрасили, чтобы тебя не слишком отвлекала жалость, тебя или кого-нибудь другого, потому что ведь ждали не обязательно тебя; это существо научилось посредством грустного ежедневного опыта искусству изображать страсть, даже не испытывая ее укуса — в комнату Ирены, туда, где она занимается любовью. Я прекрасно узнаю ее, даже обнаженную; по мне так груди у нее немного длинноваты. А мужчина стоит ко мне спиной: я не могу назвать его имени, и если я где-то и встречал это тело, то, конечно, под одеждой, а одежда мужчины, в отличие от женщины, для меня — самое характерное в нем. Любого обнаженного мужчину с бородой я путаю с Иисусом Христом. Но тот, что расставил ноги над Иреной и грубо ее щупает, если судить по боковым движениям его челюсти, гладко выбрит. Когда он приподнимается, я замечаю их слившиеся груди, которые не могут оторваться друг от друга. Может быть, конечно, у него небольшая бородка или американские усики. Опираясь на левую руку, он вытягивает правую вдоль тела Ирены и запихивает эту руку ей под мышку. Он всячески пытается изобразить сильные чувства. Шепчет ей на ухо, хорошо ли ей. Сперва кажется, что он скована и стесняется, потом она все больше расслабляется, подыгрывая и увеличивая темп скачки. Вот и она закусывает удила.
Теперь уже самец вынужден усмирять самку. Ну-ну, не так резво. Ему пока еще не хочется кончать, или, наоборот, он энергичен, ему хочется кончить, в общем, в зависимости от испытываемого им в данный момент желания. На дне удовольствия остается лишь горький осадок, слабое воспоминание о полученном удовлетворении. Читатель, когда ты будешь заниматься любовью, никогда не доходи до конца. Но Ирена не слышит этих слов. Она вся выгибается и напрягается, как тетива. Она совершает кругообразные движения тазом и животом, сгибается и ее раздвинутые ноги прилипают к члену застывшего в неподвижной позе мужчины. Он эффектно отодвигается и демонстрирует своей подружке, что его желание нисколько не уменьшилось: он достает из сжимающегося в конвульсиях отверстия свой огромный дымящийся член. Член не слушается его, он выпрямляется и вздрагивает, когда его чувствительный конец с трением покидает вход поглощавшей его пещеры. Яйца мягко бьются о лобок. Начинающийся предприниматель, скромный труженик, и ты, важный государственный чиновник, я разрешаю вам всем бросить взгляд на лоно Ирены.
О сладкое лоно Ирены!
Такое крошечное и такое бесценное! Только здесь достойный тебя мужчина может наконец-то достичь исполнения всех своих желаний. Не бойся приблизить свое лицо и даже свой язык, болтливый, распущенный язык, к этому месту, к этому сладостному и тенистому местечку, внутреннему дворику страсти за перламутровой оградой, исполненному бесконечной грусти. О щель, влажная и нежная щель, манящая головокружительная бездна.
Именно в этой человеческой гавани все потерянные корабли обновляют свои вышедшие из употребления снасти и, возвращаясь к путешествиям детства, поднимают на мачте удачи паруса надежды. Как прекрасна плоть между вьющимися волосками: под этим любовно рассеченным топором узором виднеется чистая, нежная, молочная кожа. А сомкнутые складки больших губ потихоньку открываются. Очаровательные губы, как у приблизившегося к спящему рта, но не поперечного и параллельного всем ртам на свете, а длинного и тонкого, расположенного перпендикулярно к говорящим ртам, которые напрасно ждут от него ответа, очаровательные губы, всегда готовые к долгому и страстному поцелую и придающие этому поцелую новый, ужасный и бесконечно извращенный смысл.
Как я люблю смотреть на возбужденное лоно.
Оно само тянется к вашим глазам, выкатывается, манящее и вздутое из-за своей густой шевелюры, подобно трем обнаженным феям, выглядывающим из-за горных деревьев. А несравненный блеск живота и обнаженных ног. Дотроньтесь же, дотроньтесь до него: ваши руки никогда еще не прикасались ни к чему подобному. Прикоснитесь к этой страстной улыбке, проведите вашими пальцами вдоль этой сияющей щели. Пусть две ваши ладони со сжатыми пальцами пройдут по этой дуге и соединятся у твердого основания, о которое опирается готический купол моей святой церкви. Не двигайтесь больше, оставайтесь так, а теперь двумя вашими пальцами, двумя ласкающими мизинцами нежно, очень нежно раздвиньте прекрасные губы. И тогда, привет тебе, о розовый дворец, светлый футляр, немного растрепанный от суровой радости любви альков, ибо в это мгновение во всем своем блеске появляется вульва. В потертом атласе рассвета как солнце, если на него глядеть, закрыв глаза.
Не просто так, не случайно, но и не преднамеренно, а только благодаря УПОЕНИЮ звучанием слов, которое сродни оргазму, падению в пропасть, растворению всего существа в спущенной сперме, эти две сестрички, большие губы, как небесное благословение получили имя нимф, которое так им подходит. Нимфы на берегу водоема, в самом сердце струящихся вод, нимфы в тени на краю колодца, непостоянные и изменчивые как ветер, стоит только Ирене начать грациозно возбуждаться, вбирающие в себя тысячи разрозненных и не соотносимых друг с другом действий, из которых плетется кружево любви, нимфы, сомкнутые уздой наслаждения в этот очаровательный бутон, вздрагивающий от одного моего взгляда, бутон, стоит мне едва коснуться которого, как все преображается. Небеса проясняются, а тело наливается новыми силами. Дотронемся до него, до этого предвестника пожара. Вот уже легкая испарина проступила на коже, как зарево на горизонте моих желаний. Вот уже караваны оргазма показались в дали песков. Эти странники везут пудру и дешевые товары в забитых ржавыми гвоздями ящиках из далеких городов с террасами вдоль длинных водных артерий, перекрытых черными доками. Они уже преодолели горы. Они уже совсем рядом в своих полосатых накидках. Странники, странники, ваша спокойная усталость похожа на ночь. За ними идут нагруженные продовольствием верблюды. Вожатый помахивает палкой, а над землей поднимается самум. Ирена внезапно вспоминает об урагане. Вдали появляется мираж с его прекрасными фонтанами… Обнаженный мираж под чистым ветром. Чарущий мираж с членом как молоток. Чарующий мираж мужчины, проникающего в щелку. Чарующий мираж родника и тяжелых фруктов. Странники настолько обезумели, что начинают тереть свои губы. Ирена, ты как арка над морем. Я не пил уже сто дней и мне тяжело дышать. Ах, ах, Ирена жаждет своего возлюбленного. Того возлюбленного, у которого стоит даже на расстоянии. Ах, ах, Ирена вся дрожит и выгибается. Его член простирается, как бог, над бездной. Она изгибается, а он избегает ее, она изгибается и напрягается. Ах, оазис склоняет свои высокие пальмы. Странники, ваши бурнусы разворачиваются среди песчаных холмов. Ирена начинает задыхаться и рвется к нему. А он продолжает рассматривать ее. Ее лоно увлажнилось от ожидания члена. На прозрачном плато промелькнула тень газели…
Так пусть же обреченные на вечные мучения грешники занимаются в аду онанизмом. Ирена кончила.
Когда листья в лесах теряют свою зеленую окраску, когда их стебли окончательно забывают о некогда струившихся по ним соках, и эта протянутая навстречу ветру рука снова с жадностью касается украденного ею у великолепия дня золота, тогда эта сухая, готовая смешаться с пылью, листва представляет собой самое жалкое и печальное зрелище во всей лишившейся зелени вселенной. Скелеты нервов, в вас таится пока еще скрытая красками осени мудрость. Мне кажется, что природа достаточно по-детски непосредственна, чтобы позволить существу, покачивание нежных побегов которого мне так нравится представлять, поиграть стебельками растений. Это не рука ребенка. Это не падающая в предсмертной агонии рука туберкулезного больного, вокруг которого суетятся чувствительные врачи, чье падение столь не похоже на падение листьев, это не привыкшая к сопутствующим смерти формальностям рука священники, не рука, ожидающая в портовой лавочке нетерпеливых пьяных ласк моряков, а иногда и просто случайных прохожих, это рука которая более, чем унесенные навсегда ветром листья, могла бы заставить бредить поэтов, ибо ее легко узнать по наколке на пальцах: преступники в туннели хватаются ею за дверцы поезда, и, ударяясь о стену, падают в кровавую тьму, это рука убийцы. Ваше слово, меланхолические поэты. Восстановите из этих обломков, которые, собранные вместе, могут стать превосходным орудием грабежа и насилия, из этих обломков, разбросанных в дыму, фантастическую страну, где предел человеческого смирения, мгновение жесточайшего унижения совпадает с октябрем месяцем и еще чем-то трудно определенным. И снова, поймав эту тему за огненно-рыжие волосы метафоры, задумайтесь над тем, что осень с ее золочеными чудесами и лесным метаболизмом служит прообразом тому, кто хотел бы выразить постепенные и необратимые перемены в своем сердце. Пусть он помнит умирающий лес: я открою перед ним такие сферы, в которых он до конца познает свою немую боль, когда бесчувственные руки железных дорог молча устремляются в ночь. Если, полностью исчерпав всю грусть, попытаться перенести эту трагедию сумерек на себя, то можно заблудиться в коридорах Аналогии, как в меблированном отеле, двери которого вместо номера отмечены эхом, пусть же он поблагодарит меня за то, что я отвлек его от банальных осенних образов, и, схватив за эту оторванную искореженную руку, увлек за собой в запретную зону стыда. Он уже не понимает, рука ли это, убийца или просто лист. Он ищет, и жуткая боль сжимает ему виски, напоминая о грандиозном циклоне, который его унес. Чем он недоволен? Он не может больше читать этих диаграмм, он окончательно возненавидел все эти запутанные сложные образы. И все же, мой малыш, все гораздо проще. Ему всегда с трудом давалась стереометрия, как же теперь ему не сбиться с воображаемого пути? Он цепляется за падение листьев, а я, знаю ли сам, что на самом деле значат все эти бесчисленные пряди волос для меня? Взгляните, как, овеваемый ветром собственных мыслей, он несет увядший букет в сжатом кулаке. Зачем ему этот мусор? Бессмысленного сравнения течения его жизни со сменой времен года вряд ли достаточно, чтобы постичь, как, вопреки действию закона земного притяжения, ему, не касаясь земли, с легкостью удается шествовать по облакам. Из его карманов вываливается содержимое, свидетельствующее об увядании, гораздо более печальном, чем увядание осенних деревьев, маленький, почти исписанный карандашик, клочок бумаги, монета в сто су, какие-то письма, образцы ткани для зимнего костюма, смешно, но о саване я не говорил, кусочек ленты и булавка. Вспомни об этих следах увядания в твоих карманах, мой друг, в твоих предательских карманах, когда, преследуемый непониманием в туннелях образов, ты поворачиваешь к выходу, слишком поздно, ведь это убивает твое сердце, сердце, оторванное от лесных деревьев, куда же ушел ребенок, прижимавшийся к сердцу матери, может быть, он играет стебельками в темноте?
Как странно устроена жизнь! Годы бегут, но, несмотря на все бесчисленные странствия и всяческие перемены, человек нисколько не меняется и остается самим собой, и все потому, что он следует своим моральным принципам и всегда помнит сам себя. Правда ли, что любишь только раз в жизни? Я встречал людей, которые так считали. Когда-то я сам в это верил. Теперь я убежден, что это абсолютно нереально. Но любовь для меня все равно достаточно возвышенное чувство. Я остался верен всему, что любил. И это самое главное. Это то, что заставляет забыть обо всем на свете, и это прекрасно.
Долгие годы я не встречал ничего, что хоть отдаленно могло бы мне напомнить призрачный, зыбкий, как вода, образ Ирены. Другой же образ, реальный, который я попытался забыть вместе с ней, исчез ли он на самом деле? Тому, кто знает, что такое вечность, думать об этом невыносимо тяжело. Она исчезла, исчезла. Я был безумно влюблен в необыкновенно красивую женщину. В женщину, которой я верил, как самому себе. В женщину, которая, как я был убежден, любила меня. И я был предан ей, как собака. Так уж я устроен. Тут произошло нечто абсолютно непонятное… между нами пробежала какая-то волна и, прежде чем я успел осознать, что не стоило придавать так много значения каким-то случайным взглядам, наступило беспощадное время отпусков. Мы вынуждены были расстаться на все лето. Так сложились обстоятельства. Я уехал один, и какие-то трудности, связанные с границей, с работой железнодорожного транспорта, сделали наше общение практически невозможным, даже по почте. Впрочем, все это было не так уж и важно. За три месяца я получил всего два очень коротких письма. Два письма. Нужно знать, что было в этих письмах, чтобы понять, что я чувствовал.
Я старался избегать друзей, выражавших мне ненужное сочувствие. Каждый приход почтальона делал меня мертвенно-бледным до самого вечера. Вечер я проводил за стаканом. Ах, это лето. Лето бесконечного ожидания. Той, кого я любил, нет, я навсегда запретил себе говорить о ней. Я снова ясно вижу одно мгновение в саду в Париже, она сидит, и с ее колен соскальзывают листки моих писем, весна, перед кафе стоят металлические стулья. Если она хочет знать, какие воспоминания я сохранил о ней, то пусть она не волнуется: она оставила во мне чудесный образ агонии, и я ей благодарен за это! В конце концов, постепенно все прошло.
Там, на юге, не было даже смехотворных развлечений, имевшихся в С… Деревня и великолепный водопад, в который я кидал камни. На голубятне, целиком предоставленной в мое распоряжение, я был полностью поглощен своим наркотиком. С утра до вечера я писал. Иногда меня посещали призраки. Новые, старые. Однажды я начал было думать об Ирене, и она навеяла на меня мысли об обществе и тяжелых условиях жизни.
После этого, возможно, разочаровавшись в ней, я никогда ее больше не видел.
На ферме, где она выросла, не было ни одной мелочи, которая бы не запечатлелась в ее голове: все здание в целом Ирена запомнила таким, каким оно бросается в глаза с улицы, но она знает все неровности стены, каждую из плиток, которыми вымощен двор, все оттенки краски на балках потолка. Как у человека, который заботится о своем теле, отмечая все его изменения, у нее выработалась привычка интересоваться гипсом, деревом и кирпичами. Дом стал продолжением ее существа. Она пропиталась всеми его запахами. Даже время года она различает по открыванию ставен на ферме и смене полевых работ. Ей нравится эта бесконечная гамма смены времен года, в ней самой еще ощущается дикая чувственность, которую выдает этот плохо закрепленный, постоянно разваливающийся черный шиньон и то, как она его нетерпеливо поправляет.
Она не хочет ни в чем себе отказывать. Она никогда не любила других людей. Все они ее враги, так она считала с самого детства. Иногда, неподвижно застыв, она о них забывает. Кажется, что уже ничто не сможет ее пробудить от ее самого крепкого в мире сна. Она полная и страстная. И, вместе с тем, довольно высокая и возвышенная. Даже легкомысленная. Когда ее толкает мать, у нее делается нехороший взгляд. Она часто думает о мужчинах. Впрочем, как и о других удовольствиях. Она неравнодушна к их силе и красоте. Нельзя сказать, что она легко доступна, потому что она по-своему заботится о чистоте своего тела. Но не из моральных соображений. Кажется, что она согласна спать со всеми. Но это не так. Она долго думает о том, кого отметило ее желание. И никогда не отдается сразу же, подчиняясь первому впечатлению. У нее не слишком много фантазии. Она овладевает мужчиной, всасывая его в себя, как болотная трясина.
В четырнадцать лет она впервые отдалась наемному работнику. После этого парня сразу выгнали. О ней, как о собаке, нельзя сказать, что она в кого-то бывает влюблена. Она не особенно сентиментальна со своими любовниками. Тот, с кем она в данный момент, должен ее удовлетворять. Или до свидания. Вокруг нее увиваются многие. Она красивая, веселая и свежая. К тому же, она любит любовь. Во всяком случае, не чуждается ее. Работы она не боится. Она готова трудиться день и ночь, и когда бисерные капельки пота покрывают ее, она вся лучится от удовольствия и сияет. Заниматься с ней любовью непросто. Она хочет делить ее поровну. Она утверждает, что не умеет лицемерить. И поэтому ненавидит священников, которые почти всегда тайком грешат. Ее невозможно скомпрометировать. Все, что он ней говорят, ее абсолютно не волнует. Она всегда найдет, как ответить своей матери. А все, кто с ней когда-либо сталкивался, вынуждены были ей уступать. У нее немного полные губы, отчего она слегка отворачивается, ее всегда видят вполоборота, как будто она вовсе не замечает людей. Вдруг ее взгляд впивается им в глаза, как в добычу. Она не болтлива. И не особенно приветлива. Ее вид выражает презрение к окружающим.
Она прекрасно осознает, что занятие любовью является главным в ее жизни. Она чувствует, что создана для этого. Все остальное кажется ей бессмысленной тратой времени и чепухой. Ее серьезность делает ее поцелуи несколько грубыми. Деньги ее мало интересуют. Она никогда не думала о том, чтобы переехать в какое-то другое место, она всегда здесь жила и будет здесь хозяйкой. Заведенный на ферме порядок и ее терпеливое подчинение своей матери, Виктории, оставляют ей, при отсутствии воображения и тяги к познанию, лишь самые простые желания: голод и похоть. Иногда мужчина надоедает ей своей глупостью и занудством. Но она не обязательно решает его бросить и взять другого. Тело мужчины для нее гораздо важнее, именно оно сильнее всего влечет ее к себе. Тайно она сама признается себе в этом. И потом, чем ей заниматься, кроме любви? Болтаться без дела? Полевая работа не для нее, а в доме достаточно слуг, чтобы она могла позволить себе заниматься чем-то другим, а не домашними делами. На это есть старухи. Ее мать развлекается с мужчинами и царствует. Две женщины ненавидят друг друга, но это им не мешает. Ведь они друг друга уважают. Они очень похожи.
Странная семья, в которой уже два поколения самцов были изведены собственными женами. Отец Ирены умер сразу же после свадьбы. В деревне поговаривали, что это Виктория сама избавилась от него, не желая обслуживать мужчину, которого была обязана считать равным себе. Отец Виктории по-прежнему сидит здесь, в своем инвалидном кресле, вот уже сорок лет созерцая триумф женщин и их самодовольное здоровье. Он окончательно осел в этой деревне, которой навсегда трагически ограничен его горизонт. Что же с ним произошло? У него было немного денег, и он соблазнил дочь крестьянина. Женившись на ней, он купил ферму и небольшой участок земли. А потом, уже сраженный болезнью, наблюдал, как приумножаются вокруг него богатства его близких и растут его потомки. И тем не менее, кажется, сам он в начале сильно рисковал. Риск оправдался. Однако того, кто начинал это дело, практически уже нет. Все, что в этом обломке когда-то составляло сущность его личности, умерло задолго до него самого. От дочери к дочери, вплоть до Ирены передается вместе с обычной крестьянской дикостью что-то вроде безрассудной вспыльчивости. Во всем округе рассказывают об этом всевозможные истории и побаиваются текущей здесь бешеной крови.
Ирену отличает от Виктории то, что она никогда не имела особой тяги к женщинам, и это обстоятельство сильно отдалило дочь от матери, у которой эта тяга была столь сильна, что за все время, как она управляет фермой, здесь фактически не было ни одной служанки, не ставшей трибадой. Эта особенность мешала Виктории в делах. Она привязывалась к девочкам из народа, которые просто поселялись в ее доме. В этих местах питают некоторое уважение к подобному отклонению, которое никто здесь не скрывает, и которое почитается чуть ли не за добродетель. Оно никак не отражалось на престиже Виктории, которую мужчины считали за равную и немного побаивались. Понравиться ей почиталось за честь. Далеко от этих мест можно встретить фермеров, которые с гордостью вспоминают, что она была неравнодушна к ним. Вот женщина. Подобно расплывающемуся масляному пятну увеличиваются вокруг нее ее богатства и растет неизменно вызываемое ею у всех восхищение. За исключением не любимых ею сельских священников. Естественно, ведь они всегда только и думают, как бы вам нагадить.
Итак, Ирена не слишком любит женщин, ибо женщины постоянно лезут в ее дела. Конечно же она пробовала. Это ведь так просто, и потом, такое сильное искушение. Она несколько раз брала к себе в постель одну высокую блондинку, до того еще, как у нее появился первый любовник. Нельзя сказать, чтобы это было ей неприятно. Заставить ее скучать было практически невозможно. Но ни тогда с девочкой, своей ровесницей, которую она терроризировала, ни с другими, которых часто для разнообразия приводили с собой мужчины, потому что здесь так принято и мужчинам часто нравится наблюдать эти кошачьи нежности, она не испытывала такого удовольствия, как с мужчиной, которое бы длилось так же долго и настолько же отличалось бы от того, которое она может предоставить себе сама, а значит, на все это не стоит тратить времени. Она умеет наслаждаться. И ей нужен мужчина. Его хватка. Тогда время не будет потеряно зря. Истинное наслаждение не спутаешь ни с чем. Она знает, чего хочет. Мужчин здесь хватает, и все они чего-то мнутся. Она замечает каждого вошедшего. Поговори, малыш. А теперь иди, ей на все плевать. Мужчина. Все, чему учат там, в городе, ничего не стоит. Ей это не нужно. Они отвлекаются, на какие-то пустяки. Пусть сначала удовлетворят ее. А потом поговорим.
Виктория осознает, и даже достаточно отчетливо, что Ирена не во всем согласна с ней. Но ей это безразлично. Ей и самой это не нравится. Естественно, она признает за дочерью право действовать по своему усмотрению. Она не думает, что та настолько глупа, что станет кого-то осуждать. Однако она часто спрашивает себя: если бы Ирена тоже любила женщин, возможно, тогда все было бы проще? Между ними не было бы того отчуждения, причина которого, может быть, кроется в чем-то другом. Виктория помнит, что сама не выносила свою мать, но вероятно, совсем по другой причине. Она, Виктория, не вполне уверена, что Ирена никогда не уступит, конечно, только в духовном плане, какому-нибудь мужчине. Она находит свою дочь слишком ленивой и заранее ненавидит своего зятя, ибо ей самой приходилось работать! Виктория разговаривает по ночам, спит она не очень хорошо, ее раздражает влюбленность некоторых девушек в мужчин, которые гораздо лучше в постели, чем в поле. Она замечает, что ее дочь далеко не всегда спит с самыми лучшими работниками. Ей нравятся и разгильдяи. Вот это больше всего смущает Викторию. А потом, может, ей не так уж и хочется, думает она, она сама… нет, я все же думаю, что она сама этого хочет, ну ладно, все это не так важно. Виктория не привыкла, чтобы ее отталкивали. На сей раз она только думала об этом и ничего не предпринимала, но она наверняка натолкнулась бы на отвращение и холодное презрение. В конце концов, надо признать, что в таких условиях между матерью и дочерью не может быть особой близости. Измотавшаяся и морально и физически за день Виктория поднимается и подходит к ночному окну взглянуть на свои владения.
Ее власть практически безгранична. Она настоящая королева в этом краю. Но как бы и не совсем королева. Все досталось ей огромным трудом. Она помнит массу незаметных для других преодоленных ею препятствий. Земля и люди принадлежат ей не только благодаря ее деловой хватке. Она хозяйка своей жизни и чувственности. Она просто приобретала, она отдавалась этому целиком. Превосходящему остальных не составляет особого труда властвовать над ними. Она превосходила окружающих и властвовала над ними безраздельно. Иногда она задерживается перед своим отцом и замечает, как у него текут слюни. Именно глядя на него, она поняла, что из мужчин получаются хорошие слуги, но жалкие хозяева. Стоит им только перестать вкалывать самим, как они начинают пить и скандалить. Они годятся только на то, чтобы подцепить в борделе сифилис, как этот старик. Он-то точно его там подхватил, по роже видно. Они считают, что этим удобнее заниматься с девками, которым на все плевать и которые готовы выполнять все грязные желания любого урода, немощного, дистрофика и старика. Одна мысль о борделе выводит Викторию из себя, она снова ложится.
В сущности, Ирена действительно с презрением думает о пороках своей матери. На самом деле, она не считает это пороками. Просто она находит это вульгарным. К тому же, это глупо. Конечно, она не отрицает наличия у матери определенной хватки. Она по-своему восхищается тем, как та умеет обращаться с хитрыми и алчными крестьянами, и тем, что она сумела использовать всех, даже свое лесбиянство, чтобы править в доме и во всей округе. Она знает, как их все кругом уважают. Ее это вполне устраивает, и конечно она была бы на стороне своей матери, если бы кому-нибудь пришло в голову выступить против нее. Но если уж говорить о любви, то она совсем ее не любит. Если бы ее мать, например, имела неосторожность встать на ее пути и помешать осуществлению ее желаний, она тогда не остановилась бы ни перед чем. Впрочем, по некоторым порывам, которые она ощущала в самой себе, она знала, что злые сплетни, которые доходили до нее и согласно которым ее мать подговорила убить ее отца, или даже убила его сама, имеют под собой достаточно оснований. Это делало Викторию в ее глазах более привлекательной и необыкновенной. Ирена, впрочем, была не способна на слишком сложные чувства. Она считала, что подобная изощренность свойственна только мужчинам, а женщины всегда найдут кого-нибудь, чтобы удовлетворить свои желания, если только это, конечно, не уродины — они могут спокойно, беззаботно наслаждаться и не наводить тень на плетень.
И действительно, в отношениях со своими любовниками она не слишком утруждала себя чрезмерной лаской, которая крестьянам, бывающим часто сентиментальными, кажется очень важной в любви, в силу их плохой осведомленности о самых последних современных веяниях. Именно этой особенностью своего характера, тем, что в ней было мужского, она больше всего напоминала свою мать. Ирена вела себя с мужчинами так, как мужчины обычно ведут себя с девушками, страшно нетерпеливо, в то время как те строили планы на будущее, рассказывали о своей жизни, ударялись в нежности. Она была уверена, что объект в любви не так уж и важен, а потому не стоит искать чего-то особенного. Если бы потребовалось, она бы более откровенно и грубо сказала бы об этом вслух. Она умела быть злой и циничной. В отличие от мужчин, она не боялась слов и иногда получала от них особое удовлетворение. Она не забывала о них и во время занятий любовью. Они свободно, безо всякого напряжения, изливались из нее. Ах, какая же она скотина. Она разогревалась на пару со своим любовником при помощи самых грубых и неприличных слов. Она каталась в этих словах, как в поту. Обезумев,она вся истекает ими. Да, любовь Ирены — это нечто.
Она знает это, и пока усталое животное, которое она только что удовлетворила, отдыхает, она потягивается своим прекрасно сложенным телом с длинными грудями и, упиваясь своей победой, начинает самодовольно говорить о себе. О, это продолжается совсем недолго. Если она сразу же не бросается снова на мужчину, чтобы опять насладиться, то прогоняет его, так как не терпит, чтобы тот без дела болтался возле нее. И оставшись одна, и в самом деле одна, так как вообще для нее никогда в мире не существовало никого, кроме нее самой, она смотрится в зеркало в бамбуковой рамке. Прекрасное надменное и чувственное лицо, на котором запечатлелась особая тяга к наслаждению. Доставшийся ей по наследству от матери нос с горбинкой. Глаза посажены близко к носу, но большие и темные, как у статуи. Очень высокий лоб, густые волосы. Непослушный рот. И еще что-то, чего нельзя определить словами, таящее в себе какую-то неясную опасность, какая-то всепобеждающая чувственность с примесью пьянящей вульгарности. Она нравится сама себе. Конечно, ее руки не ухожены и слишком сильны для девушки. Но даже это кажется ей привлекательным. Причесываясь, она прячет свои руки в волосах, отчего их белизна еще сильнее бросается в глаза. От нее исходит сильный аромат брюнетки, обворожительной брюнетки, которая притягивает к себе мысли окружающих.
Вы знаете пословицу племени сиу? В голубом и прозрачном танце, рождавшемся из усилий тужащегося на стульчаке человека, уставившегося на кафель на стене туалета, больше красоты, чем в утренней заре — вот пословица сиу. Сто франков. У всего есть своя цена. Проклятые комары.
Зеркала имеют над словами, которые я употребляю, необыкновенное преимущество, заключающееся в их двойственности: хрупкости и завистливости, например. Так, луна сначала пугается моря, а потом смело в нем отражается. По этой же причине, идиотов так ценят во второй Республике. И это еще не все. А ну-ка, комары, давайте отсюда.
Почему всякий раз, стоит мне услышать, как говорят об орешках, я бываю взволнован до такой степени, что начинаю представлять себе их, или, как сказали бы вы, грезить ими наяву. Но будем рассуждать строго научно. Некая империя сама по себе не смогла бы, даже при самых благоприятных обстоятельствах, сделать из человека, пусть очень прилежного, императора. Допустим, что и это еще не все. Жалобные вздохи.
Все считают, или, точнее, предполагают, что все это вероятно должно закончиться какой-нибудь поучительной историей. Вот именно, для пиздюков. Известно, что им повсюду мерещатся всевозможные романы и романсы. Стоит им встретить какого-нибудь господина в розовой шляпе, как они спешат всем об этом поведать. Они способны говорить обо всем, о куске дерева, адюльтера, герани. Из всего этого возникает умопомрачительное количество небылиц. Но будем рассуждать строго научно.
Все это должно закончиться поучительной историей, лучше не придумаешь, просто пальчики оближешь, конфетка, а не дырка! Это просто буржуазный предрассудок — всему придавать форму законченного рассказа. А вообще-то — пожалуйста, если это кому-то так нужно. Но в своем рассказе — и это надо хорошенько осознать, я меняю имена и не собираюсь следовать по строго очерченной дуге, в соответствии с законами баллистики и постановлениями Женевской Конвенции, подобно пушечному ядру, которое в полете следует по своей траектории. Его-то уж ничто не остановит. И оно поставит свою точку в конце и, Господи Боже мой, еще какую поучительную! Будьте уверены.
Одни пересказывают жизнь других. Другие свою собственную. С чего они начинают? В конце они делают какое-нибудь глубокомысленное замечание. Про лестницу или сквозняк. Они замечают в жизни другого то, что они способны в ней заметить. Но даже если все это и действительно было, все равно все было бы по-другому. К тому же, впрочем, довольно. Взгляните на зевающего человека. Его черты искажаются, выражая неизвестную доселе меланхолию и сильное физическое страдание. Однако, собственно говоря, какое это имеет отношение к рассказу, в котором подробно излагались бы все перипетии жизни старой женщины, постепенно начавшей писать анонимные письма? И всевозможные размышления по этому поводу.
Это обычный буржуазный предрассудок — всему придавать форму законченного рассказа. Похоже, я сам попался на эту удочку, или же меня просто заставили себе служить. Однако со стороны я наверное выгляжу довольно смешно. На фоне вокзала с семафором вдали. Нет, нельзя сказать, чтобы я был полным ничтожеством. Представить же, что меня могут заставить кому-либо служить с объективной точки зрения было бы равносильно тому, что я бы полностью уподобился какому-нибудь паршивому бездомному псу. Не больше и не меньше. Неизвестная доселе меланхолия, сильное физическое страдание. Номер «Пари Суар» с моим письмом, в котором я предлагаю им свои услуги в качестве сотрудника, и еще несколькими письмами с подобными же предложениями, с искаженным Массимо Бонтемпелли интервью, в котором заявляется, что шесть тысяч узников — цифры опубликованы — сегодня отправляются на каторгу. Именно так, совсем как на этикетке натуральной минеральной воды «Эвиан — Каша», которая у меня перед глазами, где на розовом фоне изображено здание водолечебницы в момент, когда перед садом проезжает коляска и толпится несколько прохожих, среди которых можно различить даму с зонтиком. Естественно, светит солнце. А на ленте, вьющейся по краю лазурно-голубой с черным рамки, можно прочитать банальную фразу: «Одобрено Медицинской Академией». Взгляните на зевающего человека.
Все тот же номер «Пари Суар». Меня охватывает отчаяние, когда я думаю о бессмысленном множестве событий, происходящих в мире. Те, что мне известны, в сравнении с теми, что остались мне не известными, представляют собой просто ничтожное меньшинство. Да ладно, все не так уж страшно, черт побери. Еще глоточек коньяку. Мужчина, который вместо того, чтобы дрочить, хочет немного выпить, вовсе не смешон. И он пьет.
Плеск свежей воды в долине мечты, где с высоты ровно в двадцать метров тридцать сантиметров ты падаешь на изумленный гладкие скалы, ведь не напрасно же рукой человека был подвешен когда-то этот маленький картонный балкончик. Здесь с антологией в руке прогуливался некогда романтизм. Будь внимательней, Цезарь, ты можешь упасть. Ночи стали холоднее. Мне об этом больше нечего сказать, Папала (это я обращаюсь к вечным снегам). Событий слишком много.
Там, где обнаженные скалы отталкивают от себя робкую ногу, где отчаявшемуся растению некуда бросить свое обольстительное семя, там, где ледоруб альпиниста способен высечь лишь искру, там, над царством голубых мух я наше свое пастбище. Я высокогорное животное. Мне нечего об этом больше сказать. Так пусть же тот, кто продолжает рыскать в поисках пропитания, не оскорбляет больше моего слуха своим низменным шипением.
© Перевод с французского Маруси Климовой и Вячеслава Кондратовича