ПАВЕЛ СОБОЛЕВ
 Пьер Гийота
Пьер Гийота“Эдем Эдем Эдем”
С-Пб/Тверь, “Общество друзей Л.-Ф.Селина”/“Митин журнал”/“KOLONNA Publications” 2004
Любая форма патриотического воспитания основывается на стимулировании воспитуемых к готовности к самопожертвованию. Разумеется, не к бездумному, а к зиждящемуся на исторической памяти о том, какие лишения приходилось выносить в критические для отечества эпохи прародителям подвергающихся патриотической муштре пестуемых.
Одной из главных целей (если не самой главной) воспитания в патриотическом духе “подрастающего поколения” в стабильно мирное время в закрытых и “нерыночных” социумах оказывается “выпуск во взрослую жизнь” не склонных к неоправданному потребительству юношей и девушек, а рачительных, готовых довольствоваться малым генсекобоязненных сынов и дочерей своей родины, способных понимать безотносительную ценность легкодоступных в это самое стабильно мирное время вещей, дефицит в которых в те самые критические для отечества эпохи приводил к смерти прорв человеческих особей. Понятно же, что управлять неприхотливыми людьми гораздо проще, чем привередливыми… И воспитывать такой не мотивированный насущной необходимостью стоицизм легче и действенней всего через культ еды, а точнее – через культ искусства обходиться минимальнейшим ее количеством в нижайшем ее качестве.
Если говорить о Советском Союзе, то можно констатировать, что в “стабильно мирное время” (скажем, в десятилетия холодной войны) в истории этого государства нетрудно было находить страницы, убедительно агитирующие за то, что в каждом “куске хлеба” даже в период гастрономического достатка и успешно реализуемой продовольственной программы следовало бы видеть явление милостиво ниспосланной божьей благодати. К обширной галерее блокадных и других относящихся к поре второй мировой войны ужасов ответственным за патриотическое воспитание чиновникам приходилось добавлять и такие, что не так далеко отстояли от текущей современности, дабы не допустить полной мифологизации кошмаров “критических эпох”. Самый, наверное, впечатляющий поствоенный опыт борьбы советского человека с голодом, закончившийся победой над ним, касался без малого двухмесячного дрейфа в Тихом океане легкой самоходной баржи с экипажем Зиганшин-Крючковский-Поплавский-Федотов зимой 1960-го года. Я хорошо помню, как примерно через 25 лет после него моя школьная учительница географии рассказывала о том, как Зиганшин и подчиненные ему товарищи, будучи отнесенными на сотни километров от курильских берегов и покончив с имевшимся на борту провиантом, съели сначала свои ремни, а потом – сапоги. Конечно, она говорила об этом не в рамках темы о коварных тихоокеанских течениях, а тогда, когда кто-то на перемене в школьной столовой выбрасывал недоеденный хлеб или, пуще того, начинал играть им в сифу. Меня ужасно волновала эта история, но не в патриотическом ее аспекте, а в физиологическом. Тем более что мне уже был известен тогда (благодаря обожавшему Высоцкого отцу) первый случай отображения этой истории в художественном произведении, в котором были поистине великолепные строки (даже при нынешнем своем сверхскептичном отношении к их автору я продолжаю считать их таковыми):
Сердца продолжали работу
Но реже становится стук
Спокойный, но слабый Федотов
Глотал предпоследний каблук
Ну а совершеннейшего благоговения перед подвигом Асхата Зиганшина и его друзей я преисполнился уже в старших классах, когда записал первый альбом “Коммунизма” “На Советской Скорости”, на котором Егор Летов вдохновеннейше исполнял песню о “четырех безоружных солдатах” и про “полный злобы океан”. Но, однако же, самый универсальный в педагогическом смысле и просто самый величественный в советской мифологемике эпизод поедания невероятной мерзости ради спасения жизни, затыкающий за пояс и пояса с подошвами, и костный клей, все-таки приписывается к подвигу советского солдата именно в годы войны, развернуто живописанному писателем Борисом Полевым в “Повести о настоящем человеке”. Естественно, я имею в виду сцену, в которой Мересьев убил и съел ежа, найденного им в кусте можжевельника и принятого было за комок палых листьев. Летчик, начавший уже забывать вкус мяса и его текстуру, содрал с ежа панцирь и шкуру и за несколько секунд сожрал весь комок жилистой плоти вместе с косточками. Насытившись, Мересьев ощутил во рту гадостный запах псины, который между тем ничуть не мешал счастью героя осознавать, что его желудок полон и от него по телу разливается дрема. Этот кусок книги Бориса Полевого – единственный большой фрагмент прозаического художественного текста, который я помню наизусть. Само собой, не из оригинала, а из другого платинового (в смысле количества имевших хождение магнитокопий) альбома “Коммунизма” “Хроника пикирующего бомбардировщика”, где великий русский музыкант и поэт Константин Рябинов читал этот отрывок с такой выразительностью, на фоне которой меркнут все достижения советских актеров в записи радиоспектаклей. Силясь теперь оправдаться за столь длинное вступление, я хочу заметить, что пусть роман Пьера Гийота “Эдем Эдем Эдем” едва ли можно засчитать за памятник “патриотической” литературы, тем не менее, он содержит в себе такие сцены, в каковых герои ради реализации своего права на насыщение готовы пойти на куда более серьезные жертвы, чем обретение зловонного дыхания или повреждение гортани каблучьими углами. Кроме того, действующие лица “Эдема” исполнены решимости добывать себе пищу в еще более стесненных и невыгодных для себя обстоятельствах, чем те, в которых оказывались ползущий неделями по снегам воздушный ас или ведущие неравный бой с океаном истощенные мореходы.
Сердца продолжали работу
Но реже становится стук
Спокойный, но слабый Федотов
Глотал предпоследний каблук
Ну а совершеннейшего благоговения перед подвигом Асхата Зиганшина и его друзей я преисполнился уже в старших классах, когда записал первый альбом “Коммунизма” “На Советской Скорости”, на котором Егор Летов вдохновеннейше исполнял песню о “четырех безоружных солдатах” и про “полный злобы океан”. Но, однако же, самый универсальный в педагогическом смысле и просто самый величественный в советской мифологемике эпизод поедания невероятной мерзости ради спасения жизни, затыкающий за пояс и пояса с подошвами, и костный клей, все-таки приписывается к подвигу советского солдата именно в годы войны, развернуто живописанному писателем Борисом Полевым в “Повести о настоящем человеке”. Естественно, я имею в виду сцену, в которой Мересьев убил и съел ежа, найденного им в кусте можжевельника и принятого было за комок палых листьев. Летчик, начавший уже забывать вкус мяса и его текстуру, содрал с ежа панцирь и шкуру и за несколько секунд сожрал весь комок жилистой плоти вместе с косточками. Насытившись, Мересьев ощутил во рту гадостный запах псины, который между тем ничуть не мешал счастью героя осознавать, что его желудок полон и от него по телу разливается дрема. Этот кусок книги Бориса Полевого – единственный большой фрагмент прозаического художественного текста, который я помню наизусть. Само собой, не из оригинала, а из другого платинового (в смысле количества имевших хождение магнитокопий) альбома “Коммунизма” “Хроника пикирующего бомбардировщика”, где великий русский музыкант и поэт Константин Рябинов читал этот отрывок с такой выразительностью, на фоне которой меркнут все достижения советских актеров в записи радиоспектаклей. Силясь теперь оправдаться за столь длинное вступление, я хочу заметить, что пусть роман Пьера Гийота “Эдем Эдем Эдем” едва ли можно засчитать за памятник “патриотической” литературы, тем не менее, он содержит в себе такие сцены, в каковых герои ради реализации своего права на насыщение готовы пойти на куда более серьезные жертвы, чем обретение зловонного дыхания или повреждение гортани каблучьими углами. Кроме того, действующие лица “Эдема” исполнены решимости добывать себе пищу в еще более стесненных и невыгодных для себя обстоятельствах, чем те, в которых оказывались ползущий неделями по снегам воздушный ас или ведущие неравный бой с океаном истощенные мореходы.
Прежде чем поделиться восторгом от самого красивого, на мой взгляд, момента “Эдема”, я хочу напомнить, что во всех романах Пьера Гийота, участника алжирской войны,  действие разворачивается в Алжире и на этой самой войне, но не на самой линии фронта (которая всегда оказывается трудно определяемой в том случае, если речь идет о войне за независимость), а поблизости от нее, в мужском борделе. Итак, “Эдем”; как опять-таки часто бывает с войнами за независимость, чрезвычайно затянутыми и кровавыми они бывают в зонах нефтяных месторождений; самыми взыскательными клиентами эдемного борделя оказываются бурильщики, чьи брюшные прессы стерты не только рукоятками американского бура, но и проволочно-шерстистыми ягодицами шлюханов. Среди завсегдатаев борделя из числа бурильщиков обнаруживаются исключительно выдающиеся ебари, но даже в их ряду есть особенно выдающийся, с совершенно сокрушительной ебальной мощностью. Чтобы этот монстр покидал заведение довольным, ему нужно подбирать самого выносливого шлюхана. В “сокровищницах” французской литературы присутствуют ситуации, в которых подбор мужчине не адекватного ему по мощи партнера (не по ебле, так по поединку) оборачивается трагедией; скажем, слепой жребий, выбравший в соперники Бюсси д’Эпернона, хороший тому пример. У Пьера Гийота же спаривание двух человеческих самцов оказывается значительно более брутальным и чреватым смертью одного из его участников актом, чем дуэль у Александра Дюма, поэтому здесь на волю жребия ничего не отдается, и хозяин борделя, повелитель шлюх, выставляет против самого здоровенного трахаря самого вместительного и самого подвижного мальчика. Однако повелитель бура подходит к процессу ебания мальчиков, совмещая и творческие, и спортивные интересы, то есть он думает, какие бы любовные процедуры ему использовать, чтобы натурально заебать до смерти уже многожды выдерживавшего его суровые ласки подростка. На подступах к тому самому красивому моменту нефтедобытчик решает поступить так: он прокусывает шлюхану вену на виске, высасывает из нее побольше крови, сплевывает ее в лимонадную бутылочку, и сообщает мальчонке, что он будет свирепо драть его до тех пор, пока кровь в бутылочке не свернется. Чтобы мальчик, ослабевший от потери крови, не испытывал недостатка в острых коитальных ощущениях, бурильщик располагает его так, чтобы ляжки шлюхана во время ебальной скачки двигались бы по сколоченной из грубых досок барной стойке борделя, то есть чтобы шлюхан корчился не только от толчков сандалящего его очко хуя ебаря, но и от загоняющихся в него поблизости от очка острых заноз. Бурильщик выполняет план и дрючит своего любимого паренька в ошеломительном темпе до намеченного срока, с наступлением которого шлюхан теряет сознание, а из его перекушенного виска начинает фонтанировать кровь. Умиротворенный после сверхчеловеческой ебли бурильщик решает остановить кровотечение и вновь принимается отсасывать кровь из раны, но его останавливает повелитель шлюх; оценив гнилость зубов и черноту десен ебаря, он решает снизить для своей лучшей шлюхи риск смерти от сепсиса. Заботливо укладывая почти бездыханного и истерзанного кровящего шлюхана в чуланчик, повелитель шлюх отправляется к повелителю собак, местному целителю, содержателю своего рода собачьего борделя, ответственному за псарню французскому солдату, который и сам спит с собаками, и сдает их в пользование падким до комфорта сучьих чресел товарищам. И вот тут происходит нечто, что, как мне кажется, доказывает, что люди, соскучившиеся по мясу, могут в борьбе за то, чтобы получить хоть щепоть его, потребовать от себя большего, чем примирение с неизбежностью испытывать дурноту при каждых вдохе и выдохе… Рядом с описанной “не на жизнь а на смерть” случкой совершалась другая, с участием другого шлюхана и другого бурильщика, и пусть и в этой паре бурильщик старался держать своего шлюхана в черном теле, подпаляя ему волосы или отдавливая ему тяжелой обувью босые ноги, но, однако, истинные, а не показные сношательные способности этого посетителя борделя были значительно скромнее способностей безумствовавшего рядом Стаханова содомии; поэтому в этой паре шлюхан, теша самолюбие своего ебаря, лишь симулировал свою якобы бы полную затраханность – так же, как проститутка симулирует оргазм под хорошо заплатившим, но совершенно невыразительным клиентом, но на самом деле этот шлюхан чувствовал себя вполне уверенно, сохраняя и бодрость духа, и трезвость ума. И вот, завидев, как кровосочащегося шлюхана трепетно изолируют от окружающего мира до предполагаемого реанимирования поднаторевшим в остановке кровотечений собачьим паханом, другой шлюхан просит ебущего его мужика, чтобы тот тоже прокусил ему висок. Потому что тогда повелитель шлюх и его в целях посткоматозной реабилитации покормит ягнячьей печенкой…
действие разворачивается в Алжире и на этой самой войне, но не на самой линии фронта (которая всегда оказывается трудно определяемой в том случае, если речь идет о войне за независимость), а поблизости от нее, в мужском борделе. Итак, “Эдем”; как опять-таки часто бывает с войнами за независимость, чрезвычайно затянутыми и кровавыми они бывают в зонах нефтяных месторождений; самыми взыскательными клиентами эдемного борделя оказываются бурильщики, чьи брюшные прессы стерты не только рукоятками американского бура, но и проволочно-шерстистыми ягодицами шлюханов. Среди завсегдатаев борделя из числа бурильщиков обнаруживаются исключительно выдающиеся ебари, но даже в их ряду есть особенно выдающийся, с совершенно сокрушительной ебальной мощностью. Чтобы этот монстр покидал заведение довольным, ему нужно подбирать самого выносливого шлюхана. В “сокровищницах” французской литературы присутствуют ситуации, в которых подбор мужчине не адекватного ему по мощи партнера (не по ебле, так по поединку) оборачивается трагедией; скажем, слепой жребий, выбравший в соперники Бюсси д’Эпернона, хороший тому пример. У Пьера Гийота же спаривание двух человеческих самцов оказывается значительно более брутальным и чреватым смертью одного из его участников актом, чем дуэль у Александра Дюма, поэтому здесь на волю жребия ничего не отдается, и хозяин борделя, повелитель шлюх, выставляет против самого здоровенного трахаря самого вместительного и самого подвижного мальчика. Однако повелитель бура подходит к процессу ебания мальчиков, совмещая и творческие, и спортивные интересы, то есть он думает, какие бы любовные процедуры ему использовать, чтобы натурально заебать до смерти уже многожды выдерживавшего его суровые ласки подростка. На подступах к тому самому красивому моменту нефтедобытчик решает поступить так: он прокусывает шлюхану вену на виске, высасывает из нее побольше крови, сплевывает ее в лимонадную бутылочку, и сообщает мальчонке, что он будет свирепо драть его до тех пор, пока кровь в бутылочке не свернется. Чтобы мальчик, ослабевший от потери крови, не испытывал недостатка в острых коитальных ощущениях, бурильщик располагает его так, чтобы ляжки шлюхана во время ебальной скачки двигались бы по сколоченной из грубых досок барной стойке борделя, то есть чтобы шлюхан корчился не только от толчков сандалящего его очко хуя ебаря, но и от загоняющихся в него поблизости от очка острых заноз. Бурильщик выполняет план и дрючит своего любимого паренька в ошеломительном темпе до намеченного срока, с наступлением которого шлюхан теряет сознание, а из его перекушенного виска начинает фонтанировать кровь. Умиротворенный после сверхчеловеческой ебли бурильщик решает остановить кровотечение и вновь принимается отсасывать кровь из раны, но его останавливает повелитель шлюх; оценив гнилость зубов и черноту десен ебаря, он решает снизить для своей лучшей шлюхи риск смерти от сепсиса. Заботливо укладывая почти бездыханного и истерзанного кровящего шлюхана в чуланчик, повелитель шлюх отправляется к повелителю собак, местному целителю, содержателю своего рода собачьего борделя, ответственному за псарню французскому солдату, который и сам спит с собаками, и сдает их в пользование падким до комфорта сучьих чресел товарищам. И вот тут происходит нечто, что, как мне кажется, доказывает, что люди, соскучившиеся по мясу, могут в борьбе за то, чтобы получить хоть щепоть его, потребовать от себя большего, чем примирение с неизбежностью испытывать дурноту при каждых вдохе и выдохе… Рядом с описанной “не на жизнь а на смерть” случкой совершалась другая, с участием другого шлюхана и другого бурильщика, и пусть и в этой паре бурильщик старался держать своего шлюхана в черном теле, подпаляя ему волосы или отдавливая ему тяжелой обувью босые ноги, но, однако, истинные, а не показные сношательные способности этого посетителя борделя были значительно скромнее способностей безумствовавшего рядом Стаханова содомии; поэтому в этой паре шлюхан, теша самолюбие своего ебаря, лишь симулировал свою якобы бы полную затраханность – так же, как проститутка симулирует оргазм под хорошо заплатившим, но совершенно невыразительным клиентом, но на самом деле этот шлюхан чувствовал себя вполне уверенно, сохраняя и бодрость духа, и трезвость ума. И вот, завидев, как кровосочащегося шлюхана трепетно изолируют от окружающего мира до предполагаемого реанимирования поднаторевшим в остановке кровотечений собачьим паханом, другой шлюхан просит ебущего его мужика, чтобы тот тоже прокусил ему висок. Потому что тогда повелитель шлюх и его в целях посткоматозной реабилитации покормит ягнячьей печенкой…
 действие разворачивается в Алжире и на этой самой войне, но не на самой линии фронта (которая всегда оказывается трудно определяемой в том случае, если речь идет о войне за независимость), а поблизости от нее, в мужском борделе. Итак, “Эдем”; как опять-таки часто бывает с войнами за независимость, чрезвычайно затянутыми и кровавыми они бывают в зонах нефтяных месторождений; самыми взыскательными клиентами эдемного борделя оказываются бурильщики, чьи брюшные прессы стерты не только рукоятками американского бура, но и проволочно-шерстистыми ягодицами шлюханов. Среди завсегдатаев борделя из числа бурильщиков обнаруживаются исключительно выдающиеся ебари, но даже в их ряду есть особенно выдающийся, с совершенно сокрушительной ебальной мощностью. Чтобы этот монстр покидал заведение довольным, ему нужно подбирать самого выносливого шлюхана. В “сокровищницах” французской литературы присутствуют ситуации, в которых подбор мужчине не адекватного ему по мощи партнера (не по ебле, так по поединку) оборачивается трагедией; скажем, слепой жребий, выбравший в соперники Бюсси д’Эпернона, хороший тому пример. У Пьера Гийота же спаривание двух человеческих самцов оказывается значительно более брутальным и чреватым смертью одного из его участников актом, чем дуэль у Александра Дюма, поэтому здесь на волю жребия ничего не отдается, и хозяин борделя, повелитель шлюх, выставляет против самого здоровенного трахаря самого вместительного и самого подвижного мальчика. Однако повелитель бура подходит к процессу ебания мальчиков, совмещая и творческие, и спортивные интересы, то есть он думает, какие бы любовные процедуры ему использовать, чтобы натурально заебать до смерти уже многожды выдерживавшего его суровые ласки подростка. На подступах к тому самому красивому моменту нефтедобытчик решает поступить так: он прокусывает шлюхану вену на виске, высасывает из нее побольше крови, сплевывает ее в лимонадную бутылочку, и сообщает мальчонке, что он будет свирепо драть его до тех пор, пока кровь в бутылочке не свернется. Чтобы мальчик, ослабевший от потери крови, не испытывал недостатка в острых коитальных ощущениях, бурильщик располагает его так, чтобы ляжки шлюхана во время ебальной скачки двигались бы по сколоченной из грубых досок барной стойке борделя, то есть чтобы шлюхан корчился не только от толчков сандалящего его очко хуя ебаря, но и от загоняющихся в него поблизости от очка острых заноз. Бурильщик выполняет план и дрючит своего любимого паренька в ошеломительном темпе до намеченного срока, с наступлением которого шлюхан теряет сознание, а из его перекушенного виска начинает фонтанировать кровь. Умиротворенный после сверхчеловеческой ебли бурильщик решает остановить кровотечение и вновь принимается отсасывать кровь из раны, но его останавливает повелитель шлюх; оценив гнилость зубов и черноту десен ебаря, он решает снизить для своей лучшей шлюхи риск смерти от сепсиса. Заботливо укладывая почти бездыханного и истерзанного кровящего шлюхана в чуланчик, повелитель шлюх отправляется к повелителю собак, местному целителю, содержателю своего рода собачьего борделя, ответственному за псарню французскому солдату, который и сам спит с собаками, и сдает их в пользование падким до комфорта сучьих чресел товарищам. И вот тут происходит нечто, что, как мне кажется, доказывает, что люди, соскучившиеся по мясу, могут в борьбе за то, чтобы получить хоть щепоть его, потребовать от себя большего, чем примирение с неизбежностью испытывать дурноту при каждых вдохе и выдохе… Рядом с описанной “не на жизнь а на смерть” случкой совершалась другая, с участием другого шлюхана и другого бурильщика, и пусть и в этой паре бурильщик старался держать своего шлюхана в черном теле, подпаляя ему волосы или отдавливая ему тяжелой обувью босые ноги, но, однако, истинные, а не показные сношательные способности этого посетителя борделя были значительно скромнее способностей безумствовавшего рядом Стаханова содомии; поэтому в этой паре шлюхан, теша самолюбие своего ебаря, лишь симулировал свою якобы бы полную затраханность – так же, как проститутка симулирует оргазм под хорошо заплатившим, но совершенно невыразительным клиентом, но на самом деле этот шлюхан чувствовал себя вполне уверенно, сохраняя и бодрость духа, и трезвость ума. И вот, завидев, как кровосочащегося шлюхана трепетно изолируют от окружающего мира до предполагаемого реанимирования поднаторевшим в остановке кровотечений собачьим паханом, другой шлюхан просит ебущего его мужика, чтобы тот тоже прокусил ему висок. Потому что тогда повелитель шлюх и его в целях посткоматозной реабилитации покормит ягнячьей печенкой…
действие разворачивается в Алжире и на этой самой войне, но не на самой линии фронта (которая всегда оказывается трудно определяемой в том случае, если речь идет о войне за независимость), а поблизости от нее, в мужском борделе. Итак, “Эдем”; как опять-таки часто бывает с войнами за независимость, чрезвычайно затянутыми и кровавыми они бывают в зонах нефтяных месторождений; самыми взыскательными клиентами эдемного борделя оказываются бурильщики, чьи брюшные прессы стерты не только рукоятками американского бура, но и проволочно-шерстистыми ягодицами шлюханов. Среди завсегдатаев борделя из числа бурильщиков обнаруживаются исключительно выдающиеся ебари, но даже в их ряду есть особенно выдающийся, с совершенно сокрушительной ебальной мощностью. Чтобы этот монстр покидал заведение довольным, ему нужно подбирать самого выносливого шлюхана. В “сокровищницах” французской литературы присутствуют ситуации, в которых подбор мужчине не адекватного ему по мощи партнера (не по ебле, так по поединку) оборачивается трагедией; скажем, слепой жребий, выбравший в соперники Бюсси д’Эпернона, хороший тому пример. У Пьера Гийота же спаривание двух человеческих самцов оказывается значительно более брутальным и чреватым смертью одного из его участников актом, чем дуэль у Александра Дюма, поэтому здесь на волю жребия ничего не отдается, и хозяин борделя, повелитель шлюх, выставляет против самого здоровенного трахаря самого вместительного и самого подвижного мальчика. Однако повелитель бура подходит к процессу ебания мальчиков, совмещая и творческие, и спортивные интересы, то есть он думает, какие бы любовные процедуры ему использовать, чтобы натурально заебать до смерти уже многожды выдерживавшего его суровые ласки подростка. На подступах к тому самому красивому моменту нефтедобытчик решает поступить так: он прокусывает шлюхану вену на виске, высасывает из нее побольше крови, сплевывает ее в лимонадную бутылочку, и сообщает мальчонке, что он будет свирепо драть его до тех пор, пока кровь в бутылочке не свернется. Чтобы мальчик, ослабевший от потери крови, не испытывал недостатка в острых коитальных ощущениях, бурильщик располагает его так, чтобы ляжки шлюхана во время ебальной скачки двигались бы по сколоченной из грубых досок барной стойке борделя, то есть чтобы шлюхан корчился не только от толчков сандалящего его очко хуя ебаря, но и от загоняющихся в него поблизости от очка острых заноз. Бурильщик выполняет план и дрючит своего любимого паренька в ошеломительном темпе до намеченного срока, с наступлением которого шлюхан теряет сознание, а из его перекушенного виска начинает фонтанировать кровь. Умиротворенный после сверхчеловеческой ебли бурильщик решает остановить кровотечение и вновь принимается отсасывать кровь из раны, но его останавливает повелитель шлюх; оценив гнилость зубов и черноту десен ебаря, он решает снизить для своей лучшей шлюхи риск смерти от сепсиса. Заботливо укладывая почти бездыханного и истерзанного кровящего шлюхана в чуланчик, повелитель шлюх отправляется к повелителю собак, местному целителю, содержателю своего рода собачьего борделя, ответственному за псарню французскому солдату, который и сам спит с собаками, и сдает их в пользование падким до комфорта сучьих чресел товарищам. И вот тут происходит нечто, что, как мне кажется, доказывает, что люди, соскучившиеся по мясу, могут в борьбе за то, чтобы получить хоть щепоть его, потребовать от себя большего, чем примирение с неизбежностью испытывать дурноту при каждых вдохе и выдохе… Рядом с описанной “не на жизнь а на смерть” случкой совершалась другая, с участием другого шлюхана и другого бурильщика, и пусть и в этой паре бурильщик старался держать своего шлюхана в черном теле, подпаляя ему волосы или отдавливая ему тяжелой обувью босые ноги, но, однако, истинные, а не показные сношательные способности этого посетителя борделя были значительно скромнее способностей безумствовавшего рядом Стаханова содомии; поэтому в этой паре шлюхан, теша самолюбие своего ебаря, лишь симулировал свою якобы бы полную затраханность – так же, как проститутка симулирует оргазм под хорошо заплатившим, но совершенно невыразительным клиентом, но на самом деле этот шлюхан чувствовал себя вполне уверенно, сохраняя и бодрость духа, и трезвость ума. И вот, завидев, как кровосочащегося шлюхана трепетно изолируют от окружающего мира до предполагаемого реанимирования поднаторевшим в остановке кровотечений собачьим паханом, другой шлюхан просит ебущего его мужика, чтобы тот тоже прокусил ему висок. Потому что тогда повелитель шлюх и его в целях посткоматозной реабилитации покормит ягнячьей печенкой…Приходилось ли вам читать что-нибудь более прекрасное?! Честное слово, в этом самом месте у меня раз и навсегда перестало вызывать улыбку ранее очень забавлявшее меня суждение Пьера Гийота о том, что в своей книге “Progenitures”, написанной примерно через 30 лет после “Эдема”, он достиг такого “словесного лукавства”, которого не удавалось достичь до него никому в литературе, а именно: Гийота придумал сюжет, в котором в мужском борделе сын становится сутенером своего отца и расхваливает его прелести клиентам. Теперь я совершенно не сомневаюсь в том, что при разработке такой сюжетной линии Гийота написал такие сцены, для которых по “художественной силе” и “глубине психологизма” тяжело будет сыскать равные где бы то ни было, раз даже под параллельным совокуплением двух пар самцов им ставится такой итог, что сообщает человечеству о потаенных зонах человеческого сознания гораздо более точную и более исчерпывающую информацию, чем та, что содержится не только в сочинениях почитаемых за величайших романистов, но и в революционных трудах самых отважных пионеров психоанализа.
Также мне отнюдь не кажется больше, что переход Пьера Гийота после “Эдема” к так называемому фонетическому письму в “Проституции” был продиктован желанием автора  поупражняться в “экспериментальной прозе”, то есть следствием лишь причуды эксцентричного художника. Теперь мне представляется, что выстроив в “Эдеме” свой концепт наиболее адекватного воспрития алжирской войны с помощью средств, все-таки более или менее приемлемых для потребителей традиционных продуктов художественного самовыражения, Пьер Гийота, сочиняя “Проституцию”, стал делать эту книгу чудовищной (в наилучшем значении этого слова) не только в части содержания (как это было с “Эдемом”), но и в части формы. Существенное количество людей все-таки успело прочитать “Эдем” до наложения на него многолетнего запрета; среди них наверняка нашлись люди, которым эта книга показалась, выражаясь словами Стивена Барбера, “идеальной книгой для современной Европы”. С высоты почетной репутации автора такой книги, идеальность которой современность не смогла вынести, Пьер Гийота, как мне думается, мог позволить себе роскошь обратиться в своей новой книге к своего рода целевой аудитории, которая на самом деле больше походила не на роскошь, а на необходимость. “Проституция” может показаться зашифрованным продолжением “Эдема”, причем использованные шифры могут быть отнесены к разным типам: к семантическим, фонетическим, графическим. Первые могут сводиться к арабизмам-аргоизмам, понимание которых требует специальной подготовки, вторые – к транслитерационному письму, которое требует отказаться от привычки воспринимать текст в соответствии с грамматическими нормами, третьи – к поддерживающим транслитерационное письмо апостровам; их в тексте “Проституции” немногим меньше, чем букв, так что первая мысль человека, раскрывающего “Проституцию” на любой странице, это мысль о типографском браке. Дело вовсе не в том, что эти шифры так уж сложно дешифровать; скорее, они использованы в расчете на то, что среднестатистический читатель этим заниматься просто поленится. В этом смысле Пьер Гийота похож на хозяина неохраняемого дачного участка, запирающего ветхую калитку в невысоком заборе; от вора не спасет, а вот пьяный перелезать, пожалуй, не соберется. Я думаю, что Гийота должен бы понимать нелишнесть такой процедуры, поскольку, как мне представляется, инициаторами запрета “Эдема” были как раз именно такие “введенные в грех” не “воры”, а “пьяные”, то есть люди, для которых “Эдем” оказался достаточно понятным, чтобы проникнуть через незапертую калитку на заповедную территорию и объявить ее “черным континентом литературы”, подлежащим стиранию с лица земли. Конечно, на самом деле носителей государственной власти во Франции напугали отнюдь не табуированные брутальности в литературе, а слишком очевидные в случае с “Эдемом” указания на то, где для этих брутальностей было почерпнуто вдохновение в жизни, превосходящей в случае с алжирской войной по уровню брутальности любой литературный вымысел, даже самый новаторский и смелый. Я полагаю, что если бы Пьер Гийота написал бы 1968-ом году столь же непристойную книгу, как “Эдем”, но не о войне в Алжире, а, к примеру, о Содоме и Гоморре (допустим, как модерновую вариацию библейского мифа), эта книга избежала бы запретов и, возможно, даже обросла бы статусом “мгновенной классики”. Однако поскольку Гийота предпочитал писать именно о войне в Алжире, он, вполне вероятно, упрятал в “Проституции” помянутую брутальность за затейливой отделкой, чтобы сделать книгу менее уязвимой, чем “Эдем”, для нападок квазигуманистов. Тем более что для публики, прочитавшей “Эдем” не критично, а восторженно, помянутые шифры вовсе не могли оказаться серьезными препонами для плеторического постижения красот и смыслов данного текста. В справедливости этой моей теории меня убеждает и то обстоятельство, что в последних своих книгах Пьер Гийота вышел уже на такой уровень фонетического письма, что его читателям для принятия семантических сигналов требуется орфоэпический декодер, в связи с чем к книгам прилагаются компакт-диски, на которых автор читает фрагменты своего произведения, давая читателям своего рода инструкции по верному проговариванию запечатленных на бумаге лексем, поскольку без таких аудиопояснений набранный на бумаге текст остается для большинства французов совершенно бессмысленным. Я думаю, что современная Франция – это не современная Россия, в которой приложение к книге CD делает такой комплект чрезвычайно аттрактивным для потребителей товаром (это ведь так буржуазно!); сдается, что среднестатистического книгочея отпугнет необходимость читать текст, сверяясь с аудиофайлом (обычно среднестатистических книгочеев от книг отваживают даже расположенные в них после текста произведения объемные примечания к нему). Я надеюсь, вы понимаете меня: калитка становится все менее ветхой, но это вовсе не означает, что хозяин надела помешался на огорожении своей вотчины от посторонних глаз; отнюдь нет, посвященным и расположенным к посвящению раздаются дубликаты ключей от калитки. Я вполне допускаю, что мои умозаключения ошибочны, но мне очень нравится не исключаемая моей теорией возможность предполагать, что Пьер Гийота на пути от “Могилы” к “Потомствам” неизменно двигался в сторону усложнения текста для нетренированного восприятия; эта возможность дает надежду на то, что в “Могиле для 500 000 солдат” запредельные брутальности находятся еще очевидней, чем в “Эдеме”, на поверхности; и хотя тут цепь моих рассуждений становится особенно слабой, поскольку “Могила” была запрещена лишь вместе с “Эдемом” и за компанию с ним, тем не менее, это не делает менее трепетным для меня ожидание 63-го номера “Митиного Журнала”, в котором напечатан большой отрывок “Могилы” — книги, в которой я сейчас могут подозревать самый брутальный роман XX века. Причем брутальность прозы Пьера Гийота мне кажется брутальностью того сорта, что совершенно оправданна, поскольку, вероятно, война является единственным продолжительным во времени состоянием межчеловеческих отношений, в правде о каковом человечество нуждается. Не в том смысле, что эта правда должна быть представлена максимальнейшей части людской популяции, а в том, что эта правда должна существовать, если так можно выразиться, на меровесопалатном уровне. Пока существует хотя бы какой-никакой процент человеческих особей, обладающих знанием об этой правде, этот процент может выступать в роли эдакого сдерживающего фактора, обеспечивающего гарантии того, что локальные гуманитарные катастрофы не давали бы суммарно глобальную. Однако выжившие даже в самых страшных войнах их участники оказываются смертны в “стабильно мирное время”, и тогда на повестку дня встает очень остро вопрос о необходимости в “бессмертных гарантах”. “Эдем” годится для этой роли, наверное, лучше любого другого художественного текста.
поупражняться в “экспериментальной прозе”, то есть следствием лишь причуды эксцентричного художника. Теперь мне представляется, что выстроив в “Эдеме” свой концепт наиболее адекватного воспрития алжирской войны с помощью средств, все-таки более или менее приемлемых для потребителей традиционных продуктов художественного самовыражения, Пьер Гийота, сочиняя “Проституцию”, стал делать эту книгу чудовищной (в наилучшем значении этого слова) не только в части содержания (как это было с “Эдемом”), но и в части формы. Существенное количество людей все-таки успело прочитать “Эдем” до наложения на него многолетнего запрета; среди них наверняка нашлись люди, которым эта книга показалась, выражаясь словами Стивена Барбера, “идеальной книгой для современной Европы”. С высоты почетной репутации автора такой книги, идеальность которой современность не смогла вынести, Пьер Гийота, как мне думается, мог позволить себе роскошь обратиться в своей новой книге к своего рода целевой аудитории, которая на самом деле больше походила не на роскошь, а на необходимость. “Проституция” может показаться зашифрованным продолжением “Эдема”, причем использованные шифры могут быть отнесены к разным типам: к семантическим, фонетическим, графическим. Первые могут сводиться к арабизмам-аргоизмам, понимание которых требует специальной подготовки, вторые – к транслитерационному письму, которое требует отказаться от привычки воспринимать текст в соответствии с грамматическими нормами, третьи – к поддерживающим транслитерационное письмо апостровам; их в тексте “Проституции” немногим меньше, чем букв, так что первая мысль человека, раскрывающего “Проституцию” на любой странице, это мысль о типографском браке. Дело вовсе не в том, что эти шифры так уж сложно дешифровать; скорее, они использованы в расчете на то, что среднестатистический читатель этим заниматься просто поленится. В этом смысле Пьер Гийота похож на хозяина неохраняемого дачного участка, запирающего ветхую калитку в невысоком заборе; от вора не спасет, а вот пьяный перелезать, пожалуй, не соберется. Я думаю, что Гийота должен бы понимать нелишнесть такой процедуры, поскольку, как мне представляется, инициаторами запрета “Эдема” были как раз именно такие “введенные в грех” не “воры”, а “пьяные”, то есть люди, для которых “Эдем” оказался достаточно понятным, чтобы проникнуть через незапертую калитку на заповедную территорию и объявить ее “черным континентом литературы”, подлежащим стиранию с лица земли. Конечно, на самом деле носителей государственной власти во Франции напугали отнюдь не табуированные брутальности в литературе, а слишком очевидные в случае с “Эдемом” указания на то, где для этих брутальностей было почерпнуто вдохновение в жизни, превосходящей в случае с алжирской войной по уровню брутальности любой литературный вымысел, даже самый новаторский и смелый. Я полагаю, что если бы Пьер Гийота написал бы 1968-ом году столь же непристойную книгу, как “Эдем”, но не о войне в Алжире, а, к примеру, о Содоме и Гоморре (допустим, как модерновую вариацию библейского мифа), эта книга избежала бы запретов и, возможно, даже обросла бы статусом “мгновенной классики”. Однако поскольку Гийота предпочитал писать именно о войне в Алжире, он, вполне вероятно, упрятал в “Проституции” помянутую брутальность за затейливой отделкой, чтобы сделать книгу менее уязвимой, чем “Эдем”, для нападок квазигуманистов. Тем более что для публики, прочитавшей “Эдем” не критично, а восторженно, помянутые шифры вовсе не могли оказаться серьезными препонами для плеторического постижения красот и смыслов данного текста. В справедливости этой моей теории меня убеждает и то обстоятельство, что в последних своих книгах Пьер Гийота вышел уже на такой уровень фонетического письма, что его читателям для принятия семантических сигналов требуется орфоэпический декодер, в связи с чем к книгам прилагаются компакт-диски, на которых автор читает фрагменты своего произведения, давая читателям своего рода инструкции по верному проговариванию запечатленных на бумаге лексем, поскольку без таких аудиопояснений набранный на бумаге текст остается для большинства французов совершенно бессмысленным. Я думаю, что современная Франция – это не современная Россия, в которой приложение к книге CD делает такой комплект чрезвычайно аттрактивным для потребителей товаром (это ведь так буржуазно!); сдается, что среднестатистического книгочея отпугнет необходимость читать текст, сверяясь с аудиофайлом (обычно среднестатистических книгочеев от книг отваживают даже расположенные в них после текста произведения объемные примечания к нему). Я надеюсь, вы понимаете меня: калитка становится все менее ветхой, но это вовсе не означает, что хозяин надела помешался на огорожении своей вотчины от посторонних глаз; отнюдь нет, посвященным и расположенным к посвящению раздаются дубликаты ключей от калитки. Я вполне допускаю, что мои умозаключения ошибочны, но мне очень нравится не исключаемая моей теорией возможность предполагать, что Пьер Гийота на пути от “Могилы” к “Потомствам” неизменно двигался в сторону усложнения текста для нетренированного восприятия; эта возможность дает надежду на то, что в “Могиле для 500 000 солдат” запредельные брутальности находятся еще очевидней, чем в “Эдеме”, на поверхности; и хотя тут цепь моих рассуждений становится особенно слабой, поскольку “Могила” была запрещена лишь вместе с “Эдемом” и за компанию с ним, тем не менее, это не делает менее трепетным для меня ожидание 63-го номера “Митиного Журнала”, в котором напечатан большой отрывок “Могилы” — книги, в которой я сейчас могут подозревать самый брутальный роман XX века. Причем брутальность прозы Пьера Гийота мне кажется брутальностью того сорта, что совершенно оправданна, поскольку, вероятно, война является единственным продолжительным во времени состоянием межчеловеческих отношений, в правде о каковом человечество нуждается. Не в том смысле, что эта правда должна быть представлена максимальнейшей части людской популяции, а в том, что эта правда должна существовать, если так можно выразиться, на меровесопалатном уровне. Пока существует хотя бы какой-никакой процент человеческих особей, обладающих знанием об этой правде, этот процент может выступать в роли эдакого сдерживающего фактора, обеспечивающего гарантии того, что локальные гуманитарные катастрофы не давали бы суммарно глобальную. Однако выжившие даже в самых страшных войнах их участники оказываются смертны в “стабильно мирное время”, и тогда на повестку дня встает очень остро вопрос о необходимости в “бессмертных гарантах”. “Эдем” годится для этой роли, наверное, лучше любого другого художественного текста.
 поупражняться в “экспериментальной прозе”, то есть следствием лишь причуды эксцентричного художника. Теперь мне представляется, что выстроив в “Эдеме” свой концепт наиболее адекватного воспрития алжирской войны с помощью средств, все-таки более или менее приемлемых для потребителей традиционных продуктов художественного самовыражения, Пьер Гийота, сочиняя “Проституцию”, стал делать эту книгу чудовищной (в наилучшем значении этого слова) не только в части содержания (как это было с “Эдемом”), но и в части формы. Существенное количество людей все-таки успело прочитать “Эдем” до наложения на него многолетнего запрета; среди них наверняка нашлись люди, которым эта книга показалась, выражаясь словами Стивена Барбера, “идеальной книгой для современной Европы”. С высоты почетной репутации автора такой книги, идеальность которой современность не смогла вынести, Пьер Гийота, как мне думается, мог позволить себе роскошь обратиться в своей новой книге к своего рода целевой аудитории, которая на самом деле больше походила не на роскошь, а на необходимость. “Проституция” может показаться зашифрованным продолжением “Эдема”, причем использованные шифры могут быть отнесены к разным типам: к семантическим, фонетическим, графическим. Первые могут сводиться к арабизмам-аргоизмам, понимание которых требует специальной подготовки, вторые – к транслитерационному письму, которое требует отказаться от привычки воспринимать текст в соответствии с грамматическими нормами, третьи – к поддерживающим транслитерационное письмо апостровам; их в тексте “Проституции” немногим меньше, чем букв, так что первая мысль человека, раскрывающего “Проституцию” на любой странице, это мысль о типографском браке. Дело вовсе не в том, что эти шифры так уж сложно дешифровать; скорее, они использованы в расчете на то, что среднестатистический читатель этим заниматься просто поленится. В этом смысле Пьер Гийота похож на хозяина неохраняемого дачного участка, запирающего ветхую калитку в невысоком заборе; от вора не спасет, а вот пьяный перелезать, пожалуй, не соберется. Я думаю, что Гийота должен бы понимать нелишнесть такой процедуры, поскольку, как мне представляется, инициаторами запрета “Эдема” были как раз именно такие “введенные в грех” не “воры”, а “пьяные”, то есть люди, для которых “Эдем” оказался достаточно понятным, чтобы проникнуть через незапертую калитку на заповедную территорию и объявить ее “черным континентом литературы”, подлежащим стиранию с лица земли. Конечно, на самом деле носителей государственной власти во Франции напугали отнюдь не табуированные брутальности в литературе, а слишком очевидные в случае с “Эдемом” указания на то, где для этих брутальностей было почерпнуто вдохновение в жизни, превосходящей в случае с алжирской войной по уровню брутальности любой литературный вымысел, даже самый новаторский и смелый. Я полагаю, что если бы Пьер Гийота написал бы 1968-ом году столь же непристойную книгу, как “Эдем”, но не о войне в Алжире, а, к примеру, о Содоме и Гоморре (допустим, как модерновую вариацию библейского мифа), эта книга избежала бы запретов и, возможно, даже обросла бы статусом “мгновенной классики”. Однако поскольку Гийота предпочитал писать именно о войне в Алжире, он, вполне вероятно, упрятал в “Проституции” помянутую брутальность за затейливой отделкой, чтобы сделать книгу менее уязвимой, чем “Эдем”, для нападок квазигуманистов. Тем более что для публики, прочитавшей “Эдем” не критично, а восторженно, помянутые шифры вовсе не могли оказаться серьезными препонами для плеторического постижения красот и смыслов данного текста. В справедливости этой моей теории меня убеждает и то обстоятельство, что в последних своих книгах Пьер Гийота вышел уже на такой уровень фонетического письма, что его читателям для принятия семантических сигналов требуется орфоэпический декодер, в связи с чем к книгам прилагаются компакт-диски, на которых автор читает фрагменты своего произведения, давая читателям своего рода инструкции по верному проговариванию запечатленных на бумаге лексем, поскольку без таких аудиопояснений набранный на бумаге текст остается для большинства французов совершенно бессмысленным. Я думаю, что современная Франция – это не современная Россия, в которой приложение к книге CD делает такой комплект чрезвычайно аттрактивным для потребителей товаром (это ведь так буржуазно!); сдается, что среднестатистического книгочея отпугнет необходимость читать текст, сверяясь с аудиофайлом (обычно среднестатистических книгочеев от книг отваживают даже расположенные в них после текста произведения объемные примечания к нему). Я надеюсь, вы понимаете меня: калитка становится все менее ветхой, но это вовсе не означает, что хозяин надела помешался на огорожении своей вотчины от посторонних глаз; отнюдь нет, посвященным и расположенным к посвящению раздаются дубликаты ключей от калитки. Я вполне допускаю, что мои умозаключения ошибочны, но мне очень нравится не исключаемая моей теорией возможность предполагать, что Пьер Гийота на пути от “Могилы” к “Потомствам” неизменно двигался в сторону усложнения текста для нетренированного восприятия; эта возможность дает надежду на то, что в “Могиле для 500 000 солдат” запредельные брутальности находятся еще очевидней, чем в “Эдеме”, на поверхности; и хотя тут цепь моих рассуждений становится особенно слабой, поскольку “Могила” была запрещена лишь вместе с “Эдемом” и за компанию с ним, тем не менее, это не делает менее трепетным для меня ожидание 63-го номера “Митиного Журнала”, в котором напечатан большой отрывок “Могилы” — книги, в которой я сейчас могут подозревать самый брутальный роман XX века. Причем брутальность прозы Пьера Гийота мне кажется брутальностью того сорта, что совершенно оправданна, поскольку, вероятно, война является единственным продолжительным во времени состоянием межчеловеческих отношений, в правде о каковом человечество нуждается. Не в том смысле, что эта правда должна быть представлена максимальнейшей части людской популяции, а в том, что эта правда должна существовать, если так можно выразиться, на меровесопалатном уровне. Пока существует хотя бы какой-никакой процент человеческих особей, обладающих знанием об этой правде, этот процент может выступать в роли эдакого сдерживающего фактора, обеспечивающего гарантии того, что локальные гуманитарные катастрофы не давали бы суммарно глобальную. Однако выжившие даже в самых страшных войнах их участники оказываются смертны в “стабильно мирное время”, и тогда на повестку дня встает очень остро вопрос о необходимости в “бессмертных гарантах”. “Эдем” годится для этой роли, наверное, лучше любого другого художественного текста.
поупражняться в “экспериментальной прозе”, то есть следствием лишь причуды эксцентричного художника. Теперь мне представляется, что выстроив в “Эдеме” свой концепт наиболее адекватного воспрития алжирской войны с помощью средств, все-таки более или менее приемлемых для потребителей традиционных продуктов художественного самовыражения, Пьер Гийота, сочиняя “Проституцию”, стал делать эту книгу чудовищной (в наилучшем значении этого слова) не только в части содержания (как это было с “Эдемом”), но и в части формы. Существенное количество людей все-таки успело прочитать “Эдем” до наложения на него многолетнего запрета; среди них наверняка нашлись люди, которым эта книга показалась, выражаясь словами Стивена Барбера, “идеальной книгой для современной Европы”. С высоты почетной репутации автора такой книги, идеальность которой современность не смогла вынести, Пьер Гийота, как мне думается, мог позволить себе роскошь обратиться в своей новой книге к своего рода целевой аудитории, которая на самом деле больше походила не на роскошь, а на необходимость. “Проституция” может показаться зашифрованным продолжением “Эдема”, причем использованные шифры могут быть отнесены к разным типам: к семантическим, фонетическим, графическим. Первые могут сводиться к арабизмам-аргоизмам, понимание которых требует специальной подготовки, вторые – к транслитерационному письму, которое требует отказаться от привычки воспринимать текст в соответствии с грамматическими нормами, третьи – к поддерживающим транслитерационное письмо апостровам; их в тексте “Проституции” немногим меньше, чем букв, так что первая мысль человека, раскрывающего “Проституцию” на любой странице, это мысль о типографском браке. Дело вовсе не в том, что эти шифры так уж сложно дешифровать; скорее, они использованы в расчете на то, что среднестатистический читатель этим заниматься просто поленится. В этом смысле Пьер Гийота похож на хозяина неохраняемого дачного участка, запирающего ветхую калитку в невысоком заборе; от вора не спасет, а вот пьяный перелезать, пожалуй, не соберется. Я думаю, что Гийота должен бы понимать нелишнесть такой процедуры, поскольку, как мне представляется, инициаторами запрета “Эдема” были как раз именно такие “введенные в грех” не “воры”, а “пьяные”, то есть люди, для которых “Эдем” оказался достаточно понятным, чтобы проникнуть через незапертую калитку на заповедную территорию и объявить ее “черным континентом литературы”, подлежащим стиранию с лица земли. Конечно, на самом деле носителей государственной власти во Франции напугали отнюдь не табуированные брутальности в литературе, а слишком очевидные в случае с “Эдемом” указания на то, где для этих брутальностей было почерпнуто вдохновение в жизни, превосходящей в случае с алжирской войной по уровню брутальности любой литературный вымысел, даже самый новаторский и смелый. Я полагаю, что если бы Пьер Гийота написал бы 1968-ом году столь же непристойную книгу, как “Эдем”, но не о войне в Алжире, а, к примеру, о Содоме и Гоморре (допустим, как модерновую вариацию библейского мифа), эта книга избежала бы запретов и, возможно, даже обросла бы статусом “мгновенной классики”. Однако поскольку Гийота предпочитал писать именно о войне в Алжире, он, вполне вероятно, упрятал в “Проституции” помянутую брутальность за затейливой отделкой, чтобы сделать книгу менее уязвимой, чем “Эдем”, для нападок квазигуманистов. Тем более что для публики, прочитавшей “Эдем” не критично, а восторженно, помянутые шифры вовсе не могли оказаться серьезными препонами для плеторического постижения красот и смыслов данного текста. В справедливости этой моей теории меня убеждает и то обстоятельство, что в последних своих книгах Пьер Гийота вышел уже на такой уровень фонетического письма, что его читателям для принятия семантических сигналов требуется орфоэпический декодер, в связи с чем к книгам прилагаются компакт-диски, на которых автор читает фрагменты своего произведения, давая читателям своего рода инструкции по верному проговариванию запечатленных на бумаге лексем, поскольку без таких аудиопояснений набранный на бумаге текст остается для большинства французов совершенно бессмысленным. Я думаю, что современная Франция – это не современная Россия, в которой приложение к книге CD делает такой комплект чрезвычайно аттрактивным для потребителей товаром (это ведь так буржуазно!); сдается, что среднестатистического книгочея отпугнет необходимость читать текст, сверяясь с аудиофайлом (обычно среднестатистических книгочеев от книг отваживают даже расположенные в них после текста произведения объемные примечания к нему). Я надеюсь, вы понимаете меня: калитка становится все менее ветхой, но это вовсе не означает, что хозяин надела помешался на огорожении своей вотчины от посторонних глаз; отнюдь нет, посвященным и расположенным к посвящению раздаются дубликаты ключей от калитки. Я вполне допускаю, что мои умозаключения ошибочны, но мне очень нравится не исключаемая моей теорией возможность предполагать, что Пьер Гийота на пути от “Могилы” к “Потомствам” неизменно двигался в сторону усложнения текста для нетренированного восприятия; эта возможность дает надежду на то, что в “Могиле для 500 000 солдат” запредельные брутальности находятся еще очевидней, чем в “Эдеме”, на поверхности; и хотя тут цепь моих рассуждений становится особенно слабой, поскольку “Могила” была запрещена лишь вместе с “Эдемом” и за компанию с ним, тем не менее, это не делает менее трепетным для меня ожидание 63-го номера “Митиного Журнала”, в котором напечатан большой отрывок “Могилы” — книги, в которой я сейчас могут подозревать самый брутальный роман XX века. Причем брутальность прозы Пьера Гийота мне кажется брутальностью того сорта, что совершенно оправданна, поскольку, вероятно, война является единственным продолжительным во времени состоянием межчеловеческих отношений, в правде о каковом человечество нуждается. Не в том смысле, что эта правда должна быть представлена максимальнейшей части людской популяции, а в том, что эта правда должна существовать, если так можно выразиться, на меровесопалатном уровне. Пока существует хотя бы какой-никакой процент человеческих особей, обладающих знанием об этой правде, этот процент может выступать в роли эдакого сдерживающего фактора, обеспечивающего гарантии того, что локальные гуманитарные катастрофы не давали бы суммарно глобальную. Однако выжившие даже в самых страшных войнах их участники оказываются смертны в “стабильно мирное время”, и тогда на повестку дня встает очень остро вопрос о необходимости в “бессмертных гарантах”. “Эдем” годится для этой роли, наверное, лучше любого другого художественного текста. И, наконец, меня больше совершенно не удивляет противоречие между содержанием книг Пьера Гийота и его портретом, выполненным Марусей Климовой (автором  выдающихся переводов “Эдема” и “Проституции” на русский язык) в одном из ее интервью, в котором она описала опыт своего постояльчества в парижской квартире Гийота во время одного из своих пребываний во французской столице. По свидетельству Маруси Климовой, Пьер Гийота чрезвычайно заботится о том, чтобы не нервировать своих соседей: смотрит телевизор с приглушенным звуком, старается ступать как можно осторожнее, избегает передвигать мебель. Говоря о переставшем удивлять меня противоречии, я имею в виду, что больше не нахожу в этой ситуации никакого противоречия. Я считаю ныне, что у Пьера Гийота достаточно оснований для того, чтобы стараться лишний раз не напоминать о себе человечеству по ничтожному поводу, раз он имеет обыкновение на протяжении последних четырех десятилетий с разными интервалами напоминать о себе по грандиозному. Я полагаю, что если бы Пьер Гийота менее ответственно подходил бы к вопросу о ненарушении покоя своих соседей, он рисковал бы оказаться в роли искуснейшего спецагента, до поры до времени сверхуспешно выполняющего под сложнейшим прикрытием тяжелейшие задания на территории недружественного государства – разрушительные диверсии и теракты, но в итоге спаливающегося по перенапряжению на какой-нибудь бытовухе – вроде убийства наглого таксиста.
выдающихся переводов “Эдема” и “Проституции” на русский язык) в одном из ее интервью, в котором она описала опыт своего постояльчества в парижской квартире Гийота во время одного из своих пребываний во французской столице. По свидетельству Маруси Климовой, Пьер Гийота чрезвычайно заботится о том, чтобы не нервировать своих соседей: смотрит телевизор с приглушенным звуком, старается ступать как можно осторожнее, избегает передвигать мебель. Говоря о переставшем удивлять меня противоречии, я имею в виду, что больше не нахожу в этой ситуации никакого противоречия. Я считаю ныне, что у Пьера Гийота достаточно оснований для того, чтобы стараться лишний раз не напоминать о себе человечеству по ничтожному поводу, раз он имеет обыкновение на протяжении последних четырех десятилетий с разными интервалами напоминать о себе по грандиозному. Я полагаю, что если бы Пьер Гийота менее ответственно подходил бы к вопросу о ненарушении покоя своих соседей, он рисковал бы оказаться в роли искуснейшего спецагента, до поры до времени сверхуспешно выполняющего под сложнейшим прикрытием тяжелейшие задания на территории недружественного государства – разрушительные диверсии и теракты, но в итоге спаливающегося по перенапряжению на какой-нибудь бытовухе – вроде убийства наглого таксиста.
 выдающихся переводов “Эдема” и “Проституции” на русский язык) в одном из ее интервью, в котором она описала опыт своего постояльчества в парижской квартире Гийота во время одного из своих пребываний во французской столице. По свидетельству Маруси Климовой, Пьер Гийота чрезвычайно заботится о том, чтобы не нервировать своих соседей: смотрит телевизор с приглушенным звуком, старается ступать как можно осторожнее, избегает передвигать мебель. Говоря о переставшем удивлять меня противоречии, я имею в виду, что больше не нахожу в этой ситуации никакого противоречия. Я считаю ныне, что у Пьера Гийота достаточно оснований для того, чтобы стараться лишний раз не напоминать о себе человечеству по ничтожному поводу, раз он имеет обыкновение на протяжении последних четырех десятилетий с разными интервалами напоминать о себе по грандиозному. Я полагаю, что если бы Пьер Гийота менее ответственно подходил бы к вопросу о ненарушении покоя своих соседей, он рисковал бы оказаться в роли искуснейшего спецагента, до поры до времени сверхуспешно выполняющего под сложнейшим прикрытием тяжелейшие задания на территории недружественного государства – разрушительные диверсии и теракты, но в итоге спаливающегося по перенапряжению на какой-нибудь бытовухе – вроде убийства наглого таксиста.
выдающихся переводов “Эдема” и “Проституции” на русский язык) в одном из ее интервью, в котором она описала опыт своего постояльчества в парижской квартире Гийота во время одного из своих пребываний во французской столице. По свидетельству Маруси Климовой, Пьер Гийота чрезвычайно заботится о том, чтобы не нервировать своих соседей: смотрит телевизор с приглушенным звуком, старается ступать как можно осторожнее, избегает передвигать мебель. Говоря о переставшем удивлять меня противоречии, я имею в виду, что больше не нахожу в этой ситуации никакого противоречия. Я считаю ныне, что у Пьера Гийота достаточно оснований для того, чтобы стараться лишний раз не напоминать о себе человечеству по ничтожному поводу, раз он имеет обыкновение на протяжении последних четырех десятилетий с разными интервалами напоминать о себе по грандиозному. Я полагаю, что если бы Пьер Гийота менее ответственно подходил бы к вопросу о ненарушении покоя своих соседей, он рисковал бы оказаться в роли искуснейшего спецагента, до поры до времени сверхуспешно выполняющего под сложнейшим прикрытием тяжелейшие задания на территории недружественного государства – разрушительные диверсии и теракты, но в итоге спаливающегося по перенапряжению на какой-нибудь бытовухе – вроде убийства наглого таксиста. В “Эдеме” знают цену мясу объекты не только регулируемого контрактом продавца и покупателя бордельного насилия, но и “военно-полевого”; французский солдат тащит арабскую девочку к помойной яме, чтобы на ее краю, сопредельному с псарней, прижать ее к решетке и, кусая и сотрясая, заполнить все ее внутренности своей спермой. Строго говоря, даже без учета неизбежности этого изнасилования положение этого ребенка на этом свете не выглядит завидным, поскольку в гениталиях девочки нашли себе прибежище полчища шершней, сфексов и ихневмонов. Однополчане насильника тащат к яме под руки отца девочки, чтобы сообщить побольше экстримности затеянному варварству, и в этой ситуации лишь насилуемая девочка сохраняет человеческое достоинство, и лишь ее поведение диктуется благороднейшим мотивом желания поддержать в себе жизненную силу. Не противясь натиску обезумевшего самца, девочка принимает его жестокие, звериные поцелуи, и пытается своими губами, языком и зубами выдернуть из зубов солдата застрявшие в них куски дичи, чтобы проглотить их.
Справедливости ради надо сказать, что мясо из чужого рта герои книг Пьера Гийота вырывают реже, чем вырывают они дерьмо из чужой жопы. Вообще, бесконечно тиражируемая Пьером Гийота на разные лады сцена, в которой шлюхан вылизывает очко своего ебальщика, выкусывает катышки дерьма из разросшихся в предместьях промежности – на охряном участке паховой эпидермы – кустов человеческого волоса, невероятно гармонично вписывается в пейзажи мира, находящегося в полебранной кондиции. Она словно свидетельствует в пользу того, что шлюхан – это настоящая военная профессия, ничуть не менее опасная, например, чем сапер; последний должен успеть решить алгоритмическую задачку с двумя разноцветными проводами в финале до того, как взрывная волна переселит его в другой мир; шлюхан, когда он расчесывает на пробор зубами волосы меж ягодиц своего мужика и удаляет из них сухие экскременты, часто рискует оказаться затопленным скатологическим селем, если проворонит момент, в который “жидкое дерьмо закипает в дырке жопы”.
В отличие от “Проституции”, в “Эдеме” падкой до человеческого дерьма оказывается, помимо людей, всевозможная живность, то есть к процессу распределения не финансовых, а скатологических потоков оказываются причастными и четверолапые твари, и оперенные, и чешуйчатые. В этом ряду самой величественной выглядит сцена пароксизмического возбуждения птицы запахом человеческого кала; свежеоотраханный хромоногий шлюхан, посрав, ступает прочь от сортирной ямы; его ноги облеплены червями, которые вылезли из покоящейся в яме фекальной жижи, спасаясь от схватившего яму холода. Спустя некоторое время на пути хромногого встречается гусыня, которая моментально безумеет от ароматов, исходящих от шлюхана, бросается на него, начинается биться у него в ляжках, рассыпаясь перьями, клювом пытается пробраться к его очку, в эйфории щиплет клювом и крыльями его икры..
Птицы и животные творят в “Эдеме” совершенно невероятные с позиций традиционной зоологии вещи. Сейчас, когда даже самые прожженные фанаты балканского 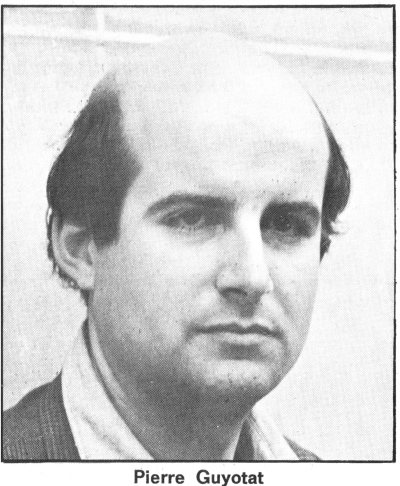 кинорежиссера Эмира Кустурицы осуждают своего кумира за самоповторы и серьезный разлад с чувством юмора в его последнем фильме “Жизнь как чудо”, в то же самое время даже самые убежденные неприятели этого кинохудожника отдают ему должное за феноменальные кадры с животными в этой же ленте, в которых те совершают в условиях как бы боснийской войны такие трюки, что не увидишь даже в элитного уровня цирке. Я хочу сказать, что если бы некоему режиссеру вздумалось бы экранизировать “Эдем” (по сути ведь это очень кинематографичный роман, детализированнейшая прописанность всего происходящего в нем даже упраздняет необходимость в сценаристе) и этот режиссер решил бы неотступно следовать тексту литературного оригинала, ему пришлось бы снимать такие чудеса, в сравнении с которыми анималистские “подвиги” Кустурицы выглядели бы ущербно. Короче, снятый на совесть и в полном соответствии с демиургической волей Гийота “Эдем” стал бы, безусловно, самым дорогостоящим проектом в истории кинематографа. И это при том, что помимо возможностей сэкономить на сценаристе, не было бы необходимости и платить большие деньги актерам; мне почему-то кажется, что и сейчас в широтах, где разворачивается действие “Эдема”, не составит труда найти людей, способных проделать перед камерой большинство из экспонированных в этом романе, так сказать, телодвижений за весьма скромную плату. Ну, не за кусок ягнячьей печенки, так за небольшую сумму в долларах… Но вот что касается сцен с животными, то для их постановки понадобились бы такие дрессировщики, гонорары которых бы на порядки превышали бы гонорары самых крупных голливудских звезд. Потому что это были бы уже не дрессировщики, а волшебники… Ибо только волшебник может обладать неограниченной, мистической властью над млекопитающими, земноводными, пресмыкающимися, пернатыми. Особенно – пернатыми; “Эдем” вообще можно воспринимать и как пропаганду орнитологии как нескучной науки; ничуть не менее прекрасными, чем фанатеющие с говна гуси, выглядят жаворонки, клюющие лобки мертвых женщин, орлы, снимающие скальпы с солдат, насилующих живых женщин на гнездах с орлятами, ягнятники-бородачи, спаривающиеся на ветвях эвкалипта и падающие на спаривающихся под эвкалиптом жену мясника и сына мясника, рябчики, объевшиеся ягод и норовящие нагадить непременно на плечи шлюханам, глухари, трущиеся влажными пушистыми животами о покрытые спермой мошонки пастухов, снова жаворонки, прячущиеся в карманах развешанных по борделю передников.
кинорежиссера Эмира Кустурицы осуждают своего кумира за самоповторы и серьезный разлад с чувством юмора в его последнем фильме “Жизнь как чудо”, в то же самое время даже самые убежденные неприятели этого кинохудожника отдают ему должное за феноменальные кадры с животными в этой же ленте, в которых те совершают в условиях как бы боснийской войны такие трюки, что не увидишь даже в элитного уровня цирке. Я хочу сказать, что если бы некоему режиссеру вздумалось бы экранизировать “Эдем” (по сути ведь это очень кинематографичный роман, детализированнейшая прописанность всего происходящего в нем даже упраздняет необходимость в сценаристе) и этот режиссер решил бы неотступно следовать тексту литературного оригинала, ему пришлось бы снимать такие чудеса, в сравнении с которыми анималистские “подвиги” Кустурицы выглядели бы ущербно. Короче, снятый на совесть и в полном соответствии с демиургической волей Гийота “Эдем” стал бы, безусловно, самым дорогостоящим проектом в истории кинематографа. И это при том, что помимо возможностей сэкономить на сценаристе, не было бы необходимости и платить большие деньги актерам; мне почему-то кажется, что и сейчас в широтах, где разворачивается действие “Эдема”, не составит труда найти людей, способных проделать перед камерой большинство из экспонированных в этом романе, так сказать, телодвижений за весьма скромную плату. Ну, не за кусок ягнячьей печенки, так за небольшую сумму в долларах… Но вот что касается сцен с животными, то для их постановки понадобились бы такие дрессировщики, гонорары которых бы на порядки превышали бы гонорары самых крупных голливудских звезд. Потому что это были бы уже не дрессировщики, а волшебники… Ибо только волшебник может обладать неограниченной, мистической властью над млекопитающими, земноводными, пресмыкающимися, пернатыми. Особенно – пернатыми; “Эдем” вообще можно воспринимать и как пропаганду орнитологии как нескучной науки; ничуть не менее прекрасными, чем фанатеющие с говна гуси, выглядят жаворонки, клюющие лобки мертвых женщин, орлы, снимающие скальпы с солдат, насилующих живых женщин на гнездах с орлятами, ягнятники-бородачи, спаривающиеся на ветвях эвкалипта и падающие на спаривающихся под эвкалиптом жену мясника и сына мясника, рябчики, объевшиеся ягод и норовящие нагадить непременно на плечи шлюханам, глухари, трущиеся влажными пушистыми животами о покрытые спермой мошонки пастухов, снова жаворонки, прячущиеся в карманах развешанных по борделю передников.
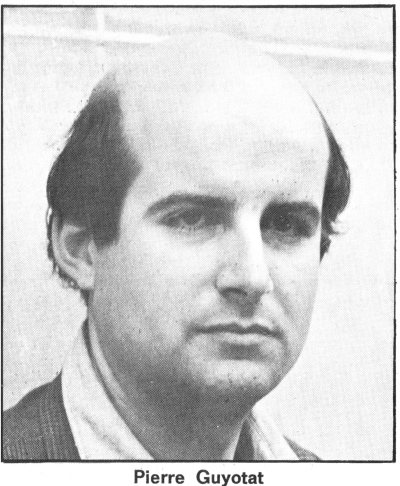 кинорежиссера Эмира Кустурицы осуждают своего кумира за самоповторы и серьезный разлад с чувством юмора в его последнем фильме “Жизнь как чудо”, в то же самое время даже самые убежденные неприятели этого кинохудожника отдают ему должное за феноменальные кадры с животными в этой же ленте, в которых те совершают в условиях как бы боснийской войны такие трюки, что не увидишь даже в элитного уровня цирке. Я хочу сказать, что если бы некоему режиссеру вздумалось бы экранизировать “Эдем” (по сути ведь это очень кинематографичный роман, детализированнейшая прописанность всего происходящего в нем даже упраздняет необходимость в сценаристе) и этот режиссер решил бы неотступно следовать тексту литературного оригинала, ему пришлось бы снимать такие чудеса, в сравнении с которыми анималистские “подвиги” Кустурицы выглядели бы ущербно. Короче, снятый на совесть и в полном соответствии с демиургической волей Гийота “Эдем” стал бы, безусловно, самым дорогостоящим проектом в истории кинематографа. И это при том, что помимо возможностей сэкономить на сценаристе, не было бы необходимости и платить большие деньги актерам; мне почему-то кажется, что и сейчас в широтах, где разворачивается действие “Эдема”, не составит труда найти людей, способных проделать перед камерой большинство из экспонированных в этом романе, так сказать, телодвижений за весьма скромную плату. Ну, не за кусок ягнячьей печенки, так за небольшую сумму в долларах… Но вот что касается сцен с животными, то для их постановки понадобились бы такие дрессировщики, гонорары которых бы на порядки превышали бы гонорары самых крупных голливудских звезд. Потому что это были бы уже не дрессировщики, а волшебники… Ибо только волшебник может обладать неограниченной, мистической властью над млекопитающими, земноводными, пресмыкающимися, пернатыми. Особенно – пернатыми; “Эдем” вообще можно воспринимать и как пропаганду орнитологии как нескучной науки; ничуть не менее прекрасными, чем фанатеющие с говна гуси, выглядят жаворонки, клюющие лобки мертвых женщин, орлы, снимающие скальпы с солдат, насилующих живых женщин на гнездах с орлятами, ягнятники-бородачи, спаривающиеся на ветвях эвкалипта и падающие на спаривающихся под эвкалиптом жену мясника и сына мясника, рябчики, объевшиеся ягод и норовящие нагадить непременно на плечи шлюханам, глухари, трущиеся влажными пушистыми животами о покрытые спермой мошонки пастухов, снова жаворонки, прячущиеся в карманах развешанных по борделю передников.
кинорежиссера Эмира Кустурицы осуждают своего кумира за самоповторы и серьезный разлад с чувством юмора в его последнем фильме “Жизнь как чудо”, в то же самое время даже самые убежденные неприятели этого кинохудожника отдают ему должное за феноменальные кадры с животными в этой же ленте, в которых те совершают в условиях как бы боснийской войны такие трюки, что не увидишь даже в элитного уровня цирке. Я хочу сказать, что если бы некоему режиссеру вздумалось бы экранизировать “Эдем” (по сути ведь это очень кинематографичный роман, детализированнейшая прописанность всего происходящего в нем даже упраздняет необходимость в сценаристе) и этот режиссер решил бы неотступно следовать тексту литературного оригинала, ему пришлось бы снимать такие чудеса, в сравнении с которыми анималистские “подвиги” Кустурицы выглядели бы ущербно. Короче, снятый на совесть и в полном соответствии с демиургической волей Гийота “Эдем” стал бы, безусловно, самым дорогостоящим проектом в истории кинематографа. И это при том, что помимо возможностей сэкономить на сценаристе, не было бы необходимости и платить большие деньги актерам; мне почему-то кажется, что и сейчас в широтах, где разворачивается действие “Эдема”, не составит труда найти людей, способных проделать перед камерой большинство из экспонированных в этом романе, так сказать, телодвижений за весьма скромную плату. Ну, не за кусок ягнячьей печенки, так за небольшую сумму в долларах… Но вот что касается сцен с животными, то для их постановки понадобились бы такие дрессировщики, гонорары которых бы на порядки превышали бы гонорары самых крупных голливудских звезд. Потому что это были бы уже не дрессировщики, а волшебники… Ибо только волшебник может обладать неограниченной, мистической властью над млекопитающими, земноводными, пресмыкающимися, пернатыми. Особенно – пернатыми; “Эдем” вообще можно воспринимать и как пропаганду орнитологии как нескучной науки; ничуть не менее прекрасными, чем фанатеющие с говна гуси, выглядят жаворонки, клюющие лобки мертвых женщин, орлы, снимающие скальпы с солдат, насилующих живых женщин на гнездах с орлятами, ягнятники-бородачи, спаривающиеся на ветвях эвкалипта и падающие на спаривающихся под эвкалиптом жену мясника и сына мясника, рябчики, объевшиеся ягод и норовящие нагадить непременно на плечи шлюханам, глухари, трущиеся влажными пушистыми животами о покрытые спермой мошонки пастухов, снова жаворонки, прячущиеся в карманах развешанных по борделю передников.А разве не восхитительны жабы, распознающие в эрегированных членах дремлющих шлюханов отличные трамплины для прыжков?! А рогатые гадюки, перехаркивающиеся человеческой блевотиной?! Ну а если говорить о млекопитающих, то пусть они и представлены в “Эдеме” особенно внушительно существами, отлично поддающимися дрессировке – собаками и обезьянами, они, однако, заняты, главным образом, в эпизодах, в которых логика их поведения может быть продиктована волей суровых природных обстоятельств, а не волей дрессировщика. То есть дрессировщик может научить обезьяну играть на флейте, но давить ногами атакующих его смертоносных змей примат лучше научится в естественной среде обитания. Точно так же, как и только ведущая дикую жизнь собака может додуматься до того, чтобы переваливать лапами на горячем пепелище костра свежевырванное сердце грифа в целях его пропекания. На гарантированном пайке в кинологическом питомнике такую практичность в себе не разовьешь.
Так что при работе над некоторыми фрагментами “Эдема” кинематографистам пришлось бы обращаться не к дрессировщикам, а к так нызываемым телевизионным естествознатокам. То есть разнообразным дискаверщикам, собаку съевшим на подкарауливании всевозможных тварей в интересных положениях. Чтобы добиться нужного положения, нужно ждать порой годами, так что услуги и этих специалистов недешево обошлись бы продюсерам амбициозного проекта.
Ну а в некоторых случаях не было бы смысла обращаться ни к циркачам, ни к документалистам; чтобы снять все как надо, пришлось бы развязывать настоящую войну. Никакие симулякры милитаристских конфликтов, в отличие от взаправдашних войн, не убедят человека и природу существовать в такой гармонии, чтобы человек и животное относились бы друг к другу с таким доверием, чтобы человек давал отсосать обезъянам, собакам, поросятам, ягнятам, козлятам и кроликам, сам бы отсасывал у них, совокуплялся бы с ними.
Таким образом, проект становится еще более дорогостоящим. Кстати, если в нем все-таки задействовать профессиональных актеров, то очень раздутой в бюджете этого проекта была бы и статья, прописывающая отчисления страховщикам – на медицинские полисы артистам. Эстонский актер Райн Симмуль рассказывал эстонской прессе, как на съемках эстонского экологического этнохоррора “Сердце медведицы” (в котором его герой должен был сношаться со зверем) ему было страшно учиться целоваться с медведем, пусть и с дресированным самыми лучшими дрессировщиками на всем постсоветском пространстве. Актер и зверь пихали изо рта в рот друг другу леденец, и Симмуль очень боялся, что мишка нечаянно оттяпает ему губу. Ну, понятно, даже целоваться с медведем не так страшно, как давать отсосать овчарке.
Впрочем, лучше даже самой лучшей рекомендации отрекомендует “Эдем” любой отрывок из этого великого сочинения. Сознаю, что отрекомендует собственным величием так, что укажет на всякую бесмысленность комментариев к этому тексту. Ничего не поделаешь:
“…стадо останавливается на краю обрыва; поднимающийся от вади туман все усиливается, окутывая негритянскую деревню; бараны спотыкаются об оставленных у изгороди голых детишек, копошащихся в мягком песке; возбужденные прикосновением шерсти дети залезают под животы баранов; пастухи садятся на корточки в глубине оврага, на краю шумного вади, дрочат, засунув кулак под согнутый коленный сустав и меняя свое положение на булыжниках всякий раз, когда колено едва не лопается от перенапряжения нервов и мускулов; самка барана приподнимает член ребенка, прижавшегося к проржавевшему железу писсуара – подростки с распухшими головами перетащили его сюда в тот вечер, когда в верхней части города вспыхнул бунт – слизывает с ягодиц ребенка свежие брызги экскрементов; возвращается к своему ягненку, лижет ему под хвостом; идет назад, засовывает морду между ног ребенка, ласкающего, расставив ляжки, холодные глаза овцы; в общинных полях женщины косят ячмень, пшеницу; их руки, от запястий до плеч, покрыты шрамами, фиолетовыми порезами: от укусов ежей, ударов серпов, царапин джеридами; одетый в голубую рубаху с блестками ребенок цепляется за платье матери; она поднимает голову, сквозь листья пальмы ей в глаза неожиданно бьет красный луч; ослепленная, она снова склоняется над пшеницей, отбросив серп в сторону, на нетронутый куст; серп задевает спрятавшегося в кусте ребенка; по краю разорванной плоти образуется кровавая линия, пересекающая выпуклый живот от правого бедра к левой стороне паха; девочка падает на сложенную пшеницу, ее лоб, губы побледнели, серп по-прежнему торчит в теле; в деревне дети бросают друг другу в лицо извлеченных из розового болотного песка живых жаб; жабы гадят им прямо в ладони; дети насаживают их, раздувшихся, на изгородь: проткнутые насквозь жабы падают наземь, их тела валяются вдоль изгородей в садах, где оставлены сонные, запертые до позднего вечера с ягнятами и козлятами дети; проснувшиеся от прикосновения к прохладному песку они быстро засыпают снова, убаюканные колокольчиками ягнят, козлят, лакающих из канализации теплую соленую воду под навесами из ячменной соломы; дрожащие пастухи выпрямляются; их измазанные спермой лохмотья липнут к ляжкам; на черной гальке блестят струйки; пастухи треплют своих любимых баранов; они вытирают о шерсть ляжки, вспотевшие во время дрочки задницы; от прикосновения к благоухающей шерсти их обмякшие члены снова твердеют, зарываются, лиловые, в соленую шерсть; собравшиеся вокруг раненой девочки женщины поворачиваются; пастухи, с придавленными к ягодицам костяками баранов мошонками, зарывшись голыми ногами в теплый песок, высунув языки до подбородка, задыхаются, повизгивают; собаки в течке катаются по пшенице, покусывают платья женщин; катаются по песку, покусывают члены пастухов; рыжая собака лижет рану девочки, трется о ногу самого здоровенного пастуха, пихает свой горячий язык между его ляжек; язык обвивается вокруг члена; собачье дыхание окутывает низ живота пастуха, у него по ляжке течет слюна; пастух напрягает прижатые к бараньим бокам ноги – треск мышц пугает собаку, которая бросается в сторону; пастух, с искаженными мокрыми от пены губами, тихо выпускает газы, — собака возвращается, снова обхватывает его член языком, жует растительность на его заднице -, кряхтит, вцепившись пальцами в уши барана; брызжет сперма, собака собирает ее изогнутым языком, несет в пшеницу, к ногам женщины;/ в комнате для случки младенец, выбравшись из колыбели, ползет по тянущемуся меж ног солдата с голубоватыми висками следу спермы, уходящему под ногу черной шлюхи; пола его голубого шерстяного костюмчика волочится в прозрачном семени; сидящая по-турецки на кафельном полу шлюха-подросток сажает ребенка между своих ляжек; она расчесывает белокурого солдата с родинкой на лобке; вздрагивает спина солдата, заляпанная зеленой краской, отпечатавшейся на коже, когда его начала дрочить хозяйка борделя”.
“…стадо останавливается на краю обрыва; поднимающийся от вади туман все усиливается, окутывая негритянскую деревню; бараны спотыкаются об оставленных у изгороди голых детишек, копошащихся в мягком песке; возбужденные прикосновением шерсти дети залезают под животы баранов; пастухи садятся на корточки в глубине оврага, на краю шумного вади, дрочат, засунув кулак под согнутый коленный сустав и меняя свое положение на булыжниках всякий раз, когда колено едва не лопается от перенапряжения нервов и мускулов; самка барана приподнимает член ребенка, прижавшегося к проржавевшему железу писсуара – подростки с распухшими головами перетащили его сюда в тот вечер, когда в верхней части города вспыхнул бунт – слизывает с ягодиц ребенка свежие брызги экскрементов; возвращается к своему ягненку, лижет ему под хвостом; идет назад, засовывает морду между ног ребенка, ласкающего, расставив ляжки, холодные глаза овцы; в общинных полях женщины косят ячмень, пшеницу; их руки, от запястий до плеч, покрыты шрамами, фиолетовыми порезами: от укусов ежей, ударов серпов, царапин джеридами; одетый в голубую рубаху с блестками ребенок цепляется за платье матери; она поднимает голову, сквозь листья пальмы ей в глаза неожиданно бьет красный луч; ослепленная, она снова склоняется над пшеницей, отбросив серп в сторону, на нетронутый куст; серп задевает спрятавшегося в кусте ребенка; по краю разорванной плоти образуется кровавая линия, пересекающая выпуклый живот от правого бедра к левой стороне паха; девочка падает на сложенную пшеницу, ее лоб, губы побледнели, серп по-прежнему торчит в теле; в деревне дети бросают друг другу в лицо извлеченных из розового болотного песка живых жаб; жабы гадят им прямо в ладони; дети насаживают их, раздувшихся, на изгородь: проткнутые насквозь жабы падают наземь, их тела валяются вдоль изгородей в садах, где оставлены сонные, запертые до позднего вечера с ягнятами и козлятами дети; проснувшиеся от прикосновения к прохладному песку они быстро засыпают снова, убаюканные колокольчиками ягнят, козлят, лакающих из канализации теплую соленую воду под навесами из ячменной соломы; дрожащие пастухи выпрямляются; их измазанные спермой лохмотья липнут к ляжкам; на черной гальке блестят струйки; пастухи треплют своих любимых баранов; они вытирают о шерсть ляжки, вспотевшие во время дрочки задницы; от прикосновения к благоухающей шерсти их обмякшие члены снова твердеют, зарываются, лиловые, в соленую шерсть; собравшиеся вокруг раненой девочки женщины поворачиваются; пастухи, с придавленными к ягодицам костяками баранов мошонками, зарывшись голыми ногами в теплый песок, высунув языки до подбородка, задыхаются, повизгивают; собаки в течке катаются по пшенице, покусывают платья женщин; катаются по песку, покусывают члены пастухов; рыжая собака лижет рану девочки, трется о ногу самого здоровенного пастуха, пихает свой горячий язык между его ляжек; язык обвивается вокруг члена; собачье дыхание окутывает низ живота пастуха, у него по ляжке течет слюна; пастух напрягает прижатые к бараньим бокам ноги – треск мышц пугает собаку, которая бросается в сторону; пастух, с искаженными мокрыми от пены губами, тихо выпускает газы, — собака возвращается, снова обхватывает его член языком, жует растительность на его заднице -, кряхтит, вцепившись пальцами в уши барана; брызжет сперма, собака собирает ее изогнутым языком, несет в пшеницу, к ногам женщины;/ в комнате для случки младенец, выбравшись из колыбели, ползет по тянущемуся меж ног солдата с голубоватыми висками следу спермы, уходящему под ногу черной шлюхи; пола его голубого шерстяного костюмчика волочится в прозрачном семени; сидящая по-турецки на кафельном полу шлюха-подросток сажает ребенка между своих ляжек; она расчесывает белокурого солдата с родинкой на лобке; вздрагивает спина солдата, заляпанная зеленой краской, отпечатавшейся на коже, когда его начала дрочить хозяйка борделя”.
И для современной Европы идеальная книга тоже, и не только для Европы.
21 дек, 2008
Вернуться на страницу «Пресса»