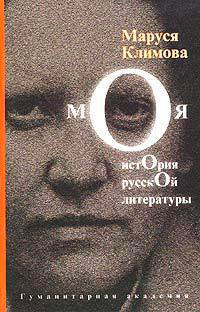penguinny
…говорю я вслух, и вот из зала уже летит первый кочан капусты. Но ведь и правда, — совершенно возмутительное название. Какая такая Маруся Климова? по какому праву берётся рассуждать о неприкосновенном? Они бы ещё издали «Мою теорию относительности» академика Лысенко, или, скажем, «Мою сталиниану» Путина В.В. И ладно бы ещё книгу оформили в стиле школьного учебника литературы для шестого класса, представили? чтобы «моя история» была намалёвана от руки, ручкой, с кучей граффити, рожицами и ромашками по краям (как бы «Григорий Остер: дополнительные главы»). Отдел детской литературы. Так нет же, суровая женщина с обложки, видимо, сама Маруся Климова, целится в читателя через перископ «О» из титульного «мОя» и не испытывает при этом никаких заметных угрызений совести.
Так получилось, что я читал «Мою историю русской литературы» (тьфу, какое неудобное название!) больше трёх лет. Начал читать в начале 2005 года, потом на что-то отвлёкся, потом почитал ещё, потом отвлёкся совсем уж надолго — сейчас пришлось перечитывать всю книгу целиком; так что если рецензия Александра Гезенцвея, к которой мне придётся ещё вернуться, озаглавлена «Медленное чтение», то чтение вашего покорного иначе как каталептическим не назовёшь. Поэтому я буду подразумевать, что все кроме меня эту книгу уже прочли, и, безо всякой надежды на актуальность происходящего, пытаюсь просто разобраться, что это за книга, и за что её едят.
Между прочим, это довольно трудно проделать, не скатываясь в заразный марусин стиль.
Итак, мы имеем сорок с лишком глав, посвящённым разным аспектам личной жизни Маруси Климовой, и различным русским/советским писателям/поэтам, каждому из которых уделено примерно столько места, сколько они в этой самой жизни сыграли. Немало копий сломано в попытках хоть как-то разобраться в Марусиных пристрастиях. Начав читать, я как-то сразу запал на любимого Достоевского и долго не мог понять, зачем филолог станет писать настолько очевидно неверные вещи (уже забыл какие!), тем более что смешно получалось не более чем умеренно. Похихикав над призывом перевести уже, наконец, на русский язык плач Ярославны, дежурное «Пушкин — дурак», по собственному равнодушию к Пушкину я скорее пролистал, и так, незаметно, погрузился в книгу в, видимо, единственно приемлемом режиме сопоставления своих ощущений о писателях с марусиными. И, что наверное неудивительно, обнаружил, что они довольно часто не совпадали, причём чем дальше я забирался в книгу, тем больше нарастало противоречий, так что на какой-то стадии стало понятно, что принять всю Марусю целиком и за один раз мало кому окажется по плечу. Как, знаете, иногда в компании встречается кого-то, с похожим на первый взгляд вкусом, и вы начинаете перебирать любимые фильмы или книги, но через пять минут выясняется, что вкусы не так уж и похожи и разговор сам собой скомкивается. Так что хочется начать с заключения вполне очевидного: в качестве развлекательной эта книга малопригодна; юмор в ней не является самоцелью, а потому автора сложно обвинить в паясничании на потеху неграмотной публике.
Тем важнее понять, зачем собственно, нужны все эти откровения, и что может означать Маруся как персонаж. Например, Андрей Аствацатуров пытается объяснить происходящее телесностью Маруси, её отказом принимать на веру что-либо, кроме самых базовых ощущений: «В отличие от своих персонажей, русских писателей и литературоведов, Маруся Климова наделена целостным мировидением. Эстетическое и бытовое (телесное) объединяется в ее восприятии в одно неделимое целое. Повседневный опыт, грязные улицы города, грохот грузовиков, жуткие коммуналки, населяющие их полудурки, мусор дворов, отдых в Шепетовке – все это окрашивает ее понимание литературы». Эта логика вполне убедительна, тем более что хоровод великих и не очень имён в путаном марусином тексте неизбежно вселяет подозрение в некоей общей неразборчивости и, одновременно, всеядности. Аромат более подобающий вышеупомянутой коммунальной кухне, нежели флакону духов. Гегемона спросили о литературе, гегемон и ответил, как мог. «Да что тут предлагать? Взять всё, да и поделить». Так в заключении и оказывается что: «Лицо автора книги кажется тяжелым, высеченным из камня, словно напоминающим о Большом Стиле, которого в русской литературе, увы, не оказалось». Но тогда оказывается, что права и Алла Латынина, излишне эмоционально сравнивающая Марусю с уличной хулиганкой, для которой ничего не свято. И мы приходим к противоречию: зачем писать книгу о том, что не заинтересованная в литературе публика в литературе не заинтересована? Получается какая-то ненужная возня.
Много также пишут о классовом аспекте марусиной критики. Якобы, книга обличает ненавистных буржуа, ограниченных стандартным набором дешёвых школьных стереотипов. Наверное, и в этом есть правда, вот только ответ на вопрос «зачем» опять выходит неудовлетворительным. В самом деле, ну дайте же вы эту книгу буржуа, он, может быть, даже и улыбнётся пару раз, но, в целом, оскорбится и выкинет недочитанную книгу в мусорное ведро, как это сделала Латынина.
Получается, что хотя пригвоздить Марусю-персонаж к позорному столбу оказывается на удивление легко, совершенно непонятно, зачем она так очевидно и многословно на это напрашивается. Единственное объяснение, мне кажется, должно заключаться в том, что Маруся преследует иную цель, отличную от описания русской литературы или своей биографии. Так вот, моя теория такая: Маруся Климова написала книгу о вкусе.
Хороший вопрос, откуда вообще берётся вкус. Какие-то основы закладываются, наверное, в детстве, в школе. Но нужно ли мне писать об убожестве этого процесса? когда шестнадцатилетним детям вываливается на головы пласт литературы, элементарно несовместимый с жизненным опытом даже и 20, и 25 лет. Очевидный балласт! как можно учить ребёнка любить сразу и Толстого и Достоевского? такой вид шизофрении даже медики пока не описали, а между тем, именно это пытались (и пытаются) привить целому народу. Может быть, вы думаете, я тут цитирую из Маруси? может быть, хотя мне кажется, что это витало в воздухе и задолго до неё. Некоторые думают, что неприязнь Толстого с Достоевским была трагедией, — да ведь нет же, просто люди были в жизни несовместимые, случается. Поэтому, мне кажется, у школьника остаётся два выхода. Либо принять любовь к обоим на веру и лишиться вкуса навсегда, либо возненавидеть одного, а лучше — обоев! чтобы элементарно сохранить рассудок.
А потом не остаётся ничего. То есть вкус, он ведь может формироваться только в результате естественного чтения и сверки с окружающими и жизненным опытом. Какой огромный соблазн, утащить куски чужого вкуса, как бы позаимствовать чужой жизненный опыт! Александр Гезенцвей рассказывает жуткую историю о знакомом, повторяющем вычитанную где-то фразу о Лермонтове, как об авторе первого русского психологического романа: «И при некой мысленной вспышке молнии я увидел этого человека с мучнистым столетним лицом, потухшими глазами и ужасным запахом изо рта, который говорил бесконечно мертвые слова о вещах, которые ему уже поздно понимать в некотором наиболее вероятном значении слова «понимать»». Меня этот абзац шокирует сейчас почти так же, как он шокировал меня в первый раз. Дело в том, что похожие размышления о Лермонтове я видел когда-то то ли у Ницше, то ли у Кафки, и они удивительно ладно укладывались в моё личное ощущение прозы Лермонтова. То есть что, вдруг, оказалось, — я тоже один из этих мёртвых непонимающих людей с запахом изо рта?
Я (мы все?) чудовищно подвержены вот таким посторонним влияниям. Что же это означает, нужно ли мне пересматривать моё отношение к Лермонтову? Может быть, наоборот, искать пятна на карьере Гезенцвея, чтобы отмести его точку зрения? Да ведь нет же, сверить вкус можно только по себе. Сердцу не прикажешь. И если с моим небогатым жизненным опытом Лермонтов кажется мне психологичным, ну чёрт со мной, такой дурной вкус. Потому что вкус, это то единственное, что остаётся у нас после изнасилования социумом. Это и есть та самая идиотская башня из слоновой кости, которая зачастую больше похожа на покосившуюся халупу в овраге. Ценно не столько, собственно, суждение, сколько его наличие.
Вся классическая система изучения литературы — пирамида. Люди в белых одеждах таскают венки куда-то в облака, огромная очередь у основания пытается пройти экзамен на право ношения венков; а простые люди слоняются вокруг, едят хот-доги и ищут туалет. И так, между делом, «людоедское чавканье» Климовой оказывается самым человечным рассказом о том, почему русская литература всё ещё занимает хоть какое-то место в её личной жизни. И, собственно, главное достоинство её дискурса заключается в том, что она никак не относится к храму. Легко бы было написать, мол, слушайте детки, я крутой филолог, и на сегодняшний день правильно любить, см. по списку. Но вместо этого мы имеем взбалмошную девицу, судящую всех попало, как ей взблагорассудится. Понимаете? вкус позволено иметь даже Марусе Климовой, поэтому можно и мне, и лично вам, дорогой читатель. И пускай «Литературная газета» и канал «Культура» стоят и скорбно на нас смотрят.
Поэтому я позволю себе предположить, что все эти выделенные буквы «О» в «мОей истОрии русскОй литературы» Маруси Климовой символизируют не монокль и не нижегородский акцент автора, а просто мыльные пузыри, образовавшиеся при отмывании классиков от вековых отложений пыли и формалина. И если по какой-то причине вам кажется, что надувать пузыри в таком контексте несерьёзно, и даже несколько провокационно, обратите внимание, что ни одного пузыря в «литературе» Маруся Климова себе надуть не позволила.
2008-05-31
http://penguinny.livejournal.com/59487.html