Валерий Бондаренко
Гийота П. Кома. Перевод Маруси Климовой. — Спб: Kolonna Publicatons/ Общество друзей Л.-Ф. Селина,
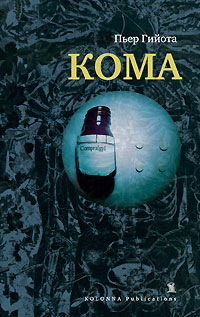
«Я всегда видел взгляд бога даже во взгляде собаки» П. Гийота, «Кома»
Наверно, при фамилии этого автора кто-то вздрогнет. Вряд ли мы читали тексты более жесткие, «грязные», грубо брутальные на русском совсем не стыдливом, кажется, языке. И огромная заслуга в этом — Маруси Климовой, которая совершила подвиг, переведя в принципе непереводимую «Проституцию», этот захлебывающийся страстью и спермой корявый монолог шлюхана из заштатного алжирского борделя. Что ж, в самом раннем своем романе «Эшби» Гийота попрощался со сливочным благолепием английской (можно, с огромными допусками, и шире — англосаксонской) любимой им ранее словесности, которая воленс-ноленс правит бал нынче на рынке, отвечая за грезы массового читателя.
Ну, за «сливочное благолепие» англосаксы платят национальной фирменной паранойей в своих бесконечных, навязчивых, как невроз, детективах и прочих ужастиках (что тоже как ведь на рынке выгодно оказалось!) У французской культуры — другая «тень»: старомодная гривуазность-фривольность и прочий оттопыренный пальчик «прекрасной маркизы» упирается в стену еще не сгоревшего замка, за которой дымятся вонючие хляби хлева. Впрочем, долгое время полагали: про все низкое-стыдное-грязное в человеке за французскую словесность на века отработали Рабле и де Сад. Ан, кредит кончился уже в 20 веке. Явились Селин, Жене, Батай, Гийота.
«Видеть мир подобно кроту, хоть он видит так мало, или подобно водяному пауку и орлу одновременно; ощущать мир подобно ковровому клещу, крабу или киту; как чайка, которая в мороз сидит на короне статуи короля и согревается своими испражнениями» (П. Гийота, «Кома»).
Это стремление расширить свой опыт не только за пределы, не охваченные культурой, но и вряд ли вообще доступные сознанию человеческому, смахивает на предсмертные крики «олимпийца» (не в спортивном, конечно, смысле) Гёте: «Света! Света!», на конвульсию угасающей цивилизации, которая всё свое оригинальное, ей отпущенное, вроде уже свершила.
Впрочем, это мои пустые прикидки-придирки. Бесспорным остается одно: «Кома» Пьера Гийота — плоть от плоти французской литературы, причем той ее ветви, которая вовсе никак не маргинальна или скандально «экспериментальна», а очень даже традиционна.
Почему-то вспомнились г-жа де Лафайет и Б. Констан, — вспомнилась чисто французская традиция психологической прозы, путешествия внутрь себя, в очень немалой мере автобиографичного. Стилевая прозрачность и меланхоличный тон, чуть риторики, капля самолюбования, складка печальной искренности, скупо, но любовно вписанные приметы внешнего мира. Однако в итоге у нашего (во всяком случае) читателя почему-то возникает ощущение существования в свое удовольствие, при всех проблемах (но без истерических надрывов) вполне благополучного. Даже если взять крайний случай — случай с Пьером Гийота, например, описанный им самим в «Коме».
Реальная подоплека этой книги и ее содержание сводятся к следующему.
В конце 70-х уже прославленный автор «Могилы для 50 000 солдат» и «Эдем, Эдем, Эдем» начал новый «текст» — огромный роман о судьбе алжирского раба и проститута Самора Машеля (так, с мягким французским «ль» перевела Маруся Климова, — мы же привыкли, что имя лидера, кажется, Мозамбика произносится с португальским твердым «л»). Гигантский труд потребовал концентрации воли и всех сил и вверг автора в депрессию. Гийота глотал один компралгил (анальгетик) и довел себя до полного физического истощения, — он буквально впал в кому. Такова жизненная основа «Комы» — книги-рефлексии Пьера Гийота.
Но и в этом странном самоистязании-самоистреблении, когда дух пожирает плоть, Гийота не погиб. Его, вовсе уже «отъехавшего», как переходящее знамя, передают с рук на руки любящие родные и близкие. На этом, собственно, строится сюжетная канва «Комы», некие странствия тела при излете души. (Но вот мне подумалось: попробовал бы он у нас этак-то порезвиться — на какой помойке, в каком кювете, в какой психушке-ментовке загинул бы без следа…)
Легче всего было бы, вслед за некоторыми парижскими знакомыми Маруси Климовой, покрутить пальчиком у виска: ку-ку ваш месье Гийота, хотя и бесспорно талантлив. «Кома», короче, — всего лишь история болезни слишком писучего автора.
Штука, однако, в том, что Гийота преобразует эти достаточно драматичные обстоятельства в произведение, отмеченное тонкой художественностью. В этом «жесте» — ни капли позы (мне кажется), зато есть «правда жизни» художника. Или, как он сам о себе сказал здесь: «Мое творчество и мои произведения — это нечто вроде покрова, защищающего меня от мира или от Бога».
Собственно, творческое состояние Гийота провозглашает в «Коме» единственным способом для себя соединиться со всеобщим, с космосом, и забыть тягостный страх смерти:
«Когда я пишу, я нахожусь на центральной оси Земли, мое существование смиренного возделывателя языка нанизано на эту ось, на ось этого движения, которое является гораздо более грандиозным, чем одно отдельное движение человека, чем движение планет или вращение планеты вместе с солнцем и звездами — вот почему мне удается избежать даже ощущения смерти.
Но страшная опасность подстерегает меня при возвращении в эту бессмысленную толпу, при приближении к человечеству, ибо, возвращаясь в мир людей, я утрачиваю эту силу тяготения! Я прекрасно знаю, что в любой момент могу оказаться во власти депрессии, и на сей раз это продлится гораздо дольше».
Эти два абзаца — и есть суть «Комы», объяснение причины того состояния, в которое Гийота погрузился сперва нехотя, а после, сдается мне, и с каким-то даже просветленным художническим интересом-самолюбованием. Он ночует в автомобиле, он обрекает себя на изгнание из собственного дома (впрочем, никогда не забывая опереться на помощь вездесущих родных и близких полупокойного; всегда в критический момент оказывается под рукой телефон и всё понимающее плечо друга или брата).
Итак, блаженство творческого состояния, равного состоянию единения с космосом и бессмертию, оказывается не под силу Гийота-человеку, так или иначе вынужденному вступать в контакты с людьми, бесконечно сдергивая себя с творческих небес на скучную землю.
Скажем честно, эта вечная, еще романтиками вдоль и поперек истоптанная коллизия заявлена в «Коме» вполне неотчетливо, словно сквозь туман угасающего сознания. Люди (не их портреты, а тени, фамилии чаще всего) возникают лишь на мгновение и обычно без всякого эмоционального со стороны автора ореола. Это заставляет читателя (особенно не знакомого с биографией и творчеством Гийота) теряться в догадках и непонятках.
И сам собою напрашивается вопрос: какое дело ему, читателю, до личных задвигов-изысков месье Гийота? Или, если повежливее спросить: чем может быть интересен глубоко личный и бесспорно болезненный опыт писателя Гийота, озвученный в его «Коме», этом полуэссе-полуисповеди, нашему мало читающему и прагматичному современнику с его собственным опытом, суетным и жестким одновременно, да к тому же и ориентированным уже на другие культурные коды?
Думается, интересен своей «идеологией». При всей сдержанно, пристойно на этот раз переданной правде жизни, при всей автобиографичности эта несколько необычная для Гийота книга имеет (а здесь и открыто провозглашает) главную особенность его длящегося из текста в текст эксперимента. Писатель творит свой мир=миф, в котором упразднен разум и весь привычный нам видимый мир культуры/цивилизации и в котором торжествует голый инстинкт. У Гийота человек подан лишь как стихия чисто природная.
В «Коме» человек есть тающая на глазах телесная оболочка, и при всей скрупулезной фиксации состояний, кажется, принципиально важно для автора, что причины своего самоизничтожения пристально он не анализирует — угасание явлено, скорее, как данность, как некое само собою свершающееся природное явление-состояние.
Причинно-следственные связи (социальные, психологические) на наглядно бытовом их уровне похерены здесь вовсе не из ложной стыдливости. В своих интервью Гийота достаточно часто вспоминает то, что нанесло ему глубочайшие душевные раны. В детстве он подвергся насилию, в юности хлебнул правды окопной жизни в Алжире, испытал жесткий прессинг и со стороны командования, и со стороны цензуры (уже как известный писатель). Но в текстах художественных ему важна не казуальность описываемого, не то, ПОЧЕМУ это происходит в данном конкретном случае, а фиксация происходящего как некой бесспорной (пусть и сюрной) «всеобщей», «всемирной», «вечной» данности. Вечной и всеобщей, естественно, лишь для него самого, для автора.
Отсюда, поскольку писатель прекрасно сознает приблизительность, условность и этой «всеобщности», и средств, которыми она передается, проистекает тончайшая ирония Гийота — читателем, впрочем, почти никогда не уловимая. В конечном счете, думается, такому повествователю, как Пьер Гийота, важно передать читателю не свой выраженный в образах опыт или миражи своего воображения, не свои мысли, а иррациональное ощущение самой данности своего существования.
В «Коме» это наглядно выразилось в том, например, что повествователь доверху затаривает машину, в которой путешествует от одних друзей к другим, консервами и при этом не раскрывает ни одной банки. Важна не плоть окружающей жизни, а добровольное угасание собственной плоти, при этом сознание обостряется до предела. Но оно не насыщается впечатлениями, а только фиксирует их и тотчас же отпускает-опускает-забывает-игнорирует, нарочно отказываясь от всякой попытки создать из ощущений конструкцию понятий и поставить ее между человеком и бытием.
Конечно, конструкция (концепция) на уровне текста «Комы» все-таки создается, оригинальная, претенциозная (хотя автор чуть с жизнью не расстался «на наших глазах»), болезненная и явно связанная с тем, чем так пристально занимались французские интеллектуалы в 60-е гг., — с поисками своей незамутненной «экзистенции».
Если интеллектуальная и психологическая проза от Монтеня и мадам де Лафайет до Пруста имела своим итогом новое знание о «человеке разумном», то Гийота словно рвется прочь из области знания о таком возвеличившем себя «человеке культуры». «Любая мысль в первую очередь стремится отыскать начало», утверждает автор «Комы», но мысль Гийота стремится к запредельному для человеческого сознания «началу начал», — к тому, чтобы соответствовать ядру его личности, когда, собственно, личности и не было никакой, а был лишь зачаток тела, эмбрион. «Имеет значение только то, чем я был до того (до своего рождения, — В. Б.); всё, что после — неважно: гуманизм, рождение, творчество».
Такое вот неоницшеанство на эмбриональном теперь уже уровне, которое в «Коме» подкрепилось и реальным жизненным опытом, опытом добровольного медитирующего самоистребления.
И всё же…
«Всё» в «Коме» — это не только личные муки-«мухи» месье Гийота и давно отошедший-отгоревший экзистенциализм. «Всё» — это актуальные и теперь художнические попытки уйти от формализованного сознания, каковым больше и больше становится сознание нашего современника, которому вот уже не только штаны и мысли, но сны и грезы предлагаются технологически апробированные, то есть из пробирки полученные и массово растиражированные.
Собственно, Пьер Гийота, мне кажется, вслед за своими старшими современниками (М. Фуко и другими «левыми», так не любимыми неолибералами, которые в 90-е торжествовали свою как будто абсолютную победу), нащупал и провидит коллизию, которая во многом станет центральным конфликтом современной «информационной» цивилизации спустя несколько поколений (уж не знаю, на уровне социального/конфессионального столкновения или только личного переживания). Ибо современное общество, провозглашая своей целью удовлетворение максимально широких потребностей, в интересах технологической унификации подменяет эту цель другой, — формированием наиболее УДОБНЫХ для производства и для господствующей элиты потребностей. «Человек разумный» заменяется «человеком умелым».
Речь, в конечном счете, идет о поставленном на промышленную основу искусственном конструировании внутреннего мира личности, чему и противится «певец слепого инстинкта» и «грязной похоти» эмбриональный индивидуалист-ницшеанец Пьер Гийота.
Но восстает мудро, осторожно и сдержанно, с изрядной долей юмора, ибо иронист и юморист он, с удовольствием повторюсь, отменнейший, даже здесь, в книге, похожей своим дыханием (местами) на хрип умирающего.
Да и как же не улыбнуться, если от нас ничего пока не зависит в этом мире, даже мы сами…
Проза.ру март 2010 г.
http://www.proza.ru/2010/03/04/746